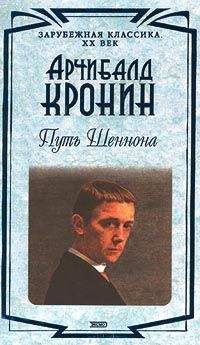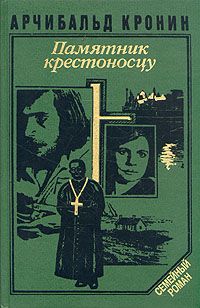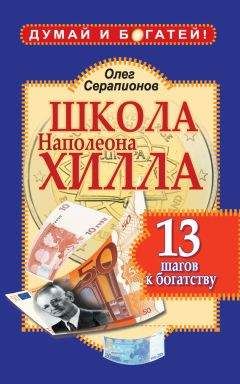— Ну, знаете ли! — с досадой воскликнул я. — Это уж слишком. Вы тратите добрых полдня, убеждая меня, что мы должны бывать вместе. А когда я предлагаю вам пойти в театр и посмотреть абсолютно невинную пьесу, собственно говоря, классическую пьесу, написанную по знаменитому роману Чарльза Диккенса, вы наотрез отказываетесь идти.
— Ах, по Диккенсу… — еле слышно пробормотала она, словно это меняло дело. — По Чарльзу Диккенсу. Это очень достойный писатель.
Но я уже разозлился и, застегнув куртку, стал искать глазами официантку, чтобы расплатиться.
Заметив, что я рассержен, она вся сжалась и с возрастающим волнением наблюдала за моими приготовлениями к уходу, — грудь ее бурно вздымалась и опускалась; наконец, тяжело вздохнув, она с трепетом сдалась.
— Хорошо, — беспомощно прошептала она. — Я пойду.
Несмотря на ее молящий взгляд, я не сразу простил ее. Сначала я расплатился по счету — по поводу чего она уже не посмела вступать со мной в спор — и вывел ее на улицу. Тут я повернулся к ней и, перед тем как проститься, сказал дружелюбно, но не без скрытой угрозы:
— Итак, в семь часов у театра. Не опаздывайте.
— Хорошо, мистер Шеннон, — покорно пробормотала она и, бросив на меня последний трепетный взгляд, повернулась и пошла прочь.
Постояв с минуту, я направился на кафедру патологии, где меня должен был ждать Спенс, которого я заранее предупредил письмом о своем приезде.
Было четверть седьмого, когда я подошел к зданию кафедры, и так как мне меньше всего на свете хотелось встречаться с Ашером или Смитом, я сначала тщательно обследовал коридоры, а уж затем вошел в лабораторию. Там, как я и ожидал, сидел, низко склонившись над столом, один Спенс.
Поскольку я ступал тихо, он заметил меня, лишь когда я уже стоял подле него. И тут я с некоторым недоумением увидел, что он вовсе не работает, а задумчиво рассматривает какую-то фотографию.
— А, Роберт! — Он затуманенным взглядом посмотрел на меня. — Я по вас соскучился. Как работается в Далнейре?
— Недурно, — весело ответил я. — Поцапался с начальницей. Зато снова вырастил мою бациллу — в чистом виде.
— Прекрасно. И уже установили, что она собой представляет?
— Нет еще, но установлю. Я как раз над этим сейчас работаю.
Он кивнул.
— Я бы тоже с удовольствием ушел отсюда, Роберт. Если бы я только мог устроиться преподавателем в каком-нибудь небольшом учебном заведении… например, в Эбердине или в колледже святого Эндрью.
— Ну и устроитесь, — ободряюще заметил я.
— Да, — как-то задумчиво произнес он. — Все эти четыре года я работал как проклятый… ради Мьюриэл. Ей должно понравиться в колледже святого Эндрью.
— А как поживает Ломекс? — спросил я.
Спенс посмотрел на меня отсутствующим взглядом. И ответил не сразу:
— Все так же красив и преуспевает, как всегда. Вполне доволен жизнью… и собой.
— Я не видел его целую вечность.
— Он последнее время был, кажется, порядком занят. Ну что ж, приятно, что вы делаете успехи. Я получил ваше письмо. И могу дать вам сколько угодно чистого глицерина.
— Спасибо, Спенс. Я знал, что могу на вас рассчитывать.
Он протестующе махнул рукой. Наступило неловкое молчание. Смущенно я отвел глаза в сторону и увидел фотографию, лежавшую перед Спенсом. Он проследил за моим взглядом.
— Посмотрите, посмотрите, — сказал он и протянул мне фотографию. На ней был изображен симпатичный юноша с правильными чертами лица, хорошо сложенный и пышущий здоровьем.
— Очень приятный молодой человек, — заметил я. — Кто это?
Он рассмеялся — звук этот резанул мой слух, ибо, хотя Спенс и часто улыбался своей кривой усмешкой, я до сих пор почти не слышал его смеха.
— Представьте себе, — сказал он, — это я.
Я пробормотал что-то нечленораздельное. Я просто не знал, что сказать, и в замешательстве взглянул на Спенса. Обычно мягкий и спокойный, сейчас он был просто неузнаваем.
— Да, таким я был в восемнадцать лет. Удивительное дело, какую огромную роль играет лицо… я имею в виду не только красивое, а обычное, даже уродливое лицо. Знаете, как пишут в романах: «В его уродливом лице было какое-то необъяснимое обаяние». Но нельзя воспеть лицо, если от него осталась одна половина. Это невозможно. Колизей — грандиозное зрелище. Но только при лунном свете и если любоваться им полчаса. Кому захочется смотреть все время на развалины? Если бы спросили меня, Шеннон, я бы сказал, что под конец это начинает чертовски действовать на нервы.
Нет, никогда еще я не видел Спенса в таком болезненно возбужденном, мрачном настроении. Он был всегда так спокоен и сдержан, что собеседник невольно забывал о том, какая ему нужна железная воля, чтобы не поддаться чувству жалости к себе. Глубоко взволнованный, почему-то смущенный, я молчал, не зная, что говорить, да и надо ли говорить вообще. Казалось, Спенс сейчас разрыдается, но он вдруг овладел собой и, поспешно вскочив со стула, направился к шкафу.
— Идите сюда, — резко позвал он. — Давайте упаковывать глицерин.
Я неторопливо подошел к нему.
Мы вместе отобрали дюжину поллитровых склянок с раствором, запаковали их в солому и поставили в прочную плетеную корзину с крышкой. И, еще раз горячо поблагодарив Спенса, я ушел. Странная вспышка, которой я был свидетелем, глубоко потрясла меня.
У подножия холма я сел в красный трамвай, который привез меня на Центральный вокзал, где я сдал свою корзину в камеру хранения багажа. Затем я зашел в буфет и наспех подкрепился бутербродом с холодными сосисками и стаканом пива. Я начал опасаться за исход сегодняшнего вечера: а вдруг излишне щепетильная совесть мисс Джин станет непреодолимым барьером на пути к нашему увеселению?
Однако, когда мы с Джин встретились у театра, я не заметил на ее лице и тени колебания: она с нетерпением ждала предстоящего события, и ее темные глаза возбужденно блестели.
— Я видела афиши, — сообщила она мне, когда мы входили в фойе, — в них нет ничего предосудительного.
Места у нас были хоть и не дорогие, но вполне приличные — два кресла в третьем ряду, и когда мы садились, оркестр как раз начал настраиваться. Моя спутница бросила на меня выразительный взгляд и уткнулась в программу, которую я ей вручил. Затем, словно желая избавиться от каких бы то ни было помех, она сняла с руки часы-браслет и отдала мне.
— Спрячьте это, пожалуйста. Браслет мне велик. И я сегодня весь день боялась, как бы его не потерять.
Свет скоро потух, и после краткой увертюры занавес взвился: перед зрителями предстал Париж восемнадцатого века, и начала медленно разворачиваться душераздирающая мелодрама времен Французской революции, где неразделенная любовь переплетается с героическим самопожертвованием.
Это была неумирающая пьеса по «Повести о двух городах», в которой блистательный актер Мартин Харвей, доблестно отдавая себя из вечера в вечер (а по средам — и днем) служению рампе, лет двадцать покорял провинциальную публику.
Сначала моя спутница, видимо из осторожности, не выказывала своего отношения к происходящему, но постепенно она увлеклась, ее ясные глазки засверкали от удовольствия и восторга. Не отрывая взгляда от сцены, она взволнованно прошептала:
— Какая чудесная пьеса!..
Она была поистине очарована бледным чернооким красавцем Сиднеем Картоном и хрупкой, точно сильфида, прелестной Люси Манет.
Наступил первый антракт. Джин медленно вздохнула и, обмахивая разгоревшиеся щеки программкой, с благодарностью взглянула на меня.
— Изумительно, мистер Шеннон! Этого я никак не ожидала. Даже выразить не могу, как мне все это нравится.
— Хотите мороженого?
— Ах нет, что вы, как можно! После того, что мы видели, это было бы святотатством.
— Пьеса, конечно, не первоклассная.
— Ах что вы, что вы! — запротестовала она. — Пьеса прелестная. Мне так жаль бедненького Сиднея Картона. Ведь он так любит Люси, а она… Ах, как это, должно быть, ужасно, мистер Шеннон, безумно любить кого-то, кто не любит тебя.
— Безусловно, — с самым серьезным видом согласился я. — Но они ведь большие друзья. А дружба — это такая чудесная вещь.
Она уткнулась в программку, чтобы скрыть вдруг вспыхнувший румянец.
— Мне они все очень нравятся, — сказала она. — Девушка, которая играет Люси, просто очаровательна: у нее такие красивые длинные волосы, и такие светлые. Ее зовут мисс Н. де Сильва.
— В жизни, — заметил я, — она жена Мартина Харвея.
— Не может быть! — воскликнула она, в волнении подняв на меня глаза. — Как интересно!
— Ей, наверно, лет сорок пять, и эти светлые волосы — не ее собственные, а парик.
— Прошу вас, мистер Шеннон, не надо! — воскликнула возмущенная Джин. — Как можно так шутить! Мне все это очень нравится, решительно все. Те! Занавес поднимается.
Второй акт начался с зеленых световых эффектов и нежной грустной музыки. И чем дальше развивалось действие, тем сильнее переживала все его перипетии моя чувствительная спутница. Глубоко взволнованная, она в перерыве почти не проронила ни слова. А в середине последнего акта, когда события на сцене снова всецело захватили ее, произошло нечто совсем уж удивительное: не знаю как, но вдруг рука ее, маленькая и влажная, очутилась в моей. И до того приятно было чувствовать жаркий ток ее крови, что я не стал отнимать свою руку. Так мы и сидели, сплетя пальцы, словно черпая друг в друге поддержку, в то время как перед нами разворачивалась трагедия самопожертвования Картона, уже подходившая к своему душераздирающему концу. Когда благородный малый, решившись на самую большую жертву, твердо взошел на помост гильотины — бледный, черные кудри старательно взъерошены — и грустно обвел своими выразительными глазами галерею и партер, я почувствовал, как дрожь пробежала по телу моей спутницы, которая сидела теперь, прижавшись ко мне, а потом, точно капли дождя весною, мне на руку закапали одна за другой ее горячие слезинки.