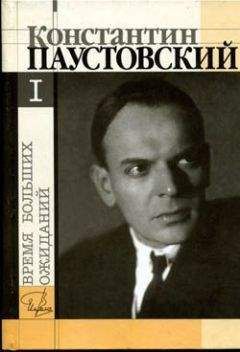Ознакомительная версия.
«Я долго рассматривал пустые гавани». Тогда в Одессе не было, пожалуй, более привычного и грустного занятия, чем рассматривание пустых гаваней со множеством их подробностей. Они были особенно милы, эти подробности. Спокойный свет, жар полуденного солнца и близость тугой играющей волны придавали им живописность крайнего юга.
В жизни мне пришлось много действовать. Действие все время передвигало жизнь из одного положения в другое, вело ее по разным руслам и поворачивало под разными, подчас причудливыми углами.
Но в этом не было ни суеты, ни лишних разговоров, ни беспорядочного общения с любыми людьми.
Наоборот, действие соединялось с жаждой наблюдений, разглядыванием жизни вблизи, как сквозь лупу, и стремлением придавать жизни (в своем воображении) гораздо больше поэтичности, чем это было на деле.
Я невольно подцвечивал и подсвечивал жизнь. Мне это нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной прелестью.
Даже если бы я очень захотел, то не мог бы уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, одной из основ писательской работы. Может быть, поэтому писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа.
Вот это желание рассматривать жизнь сквозь увеличительное стекло сильно захватило меня в Одессе и было, безусловно, связано с шатанием по порту и с безмятежными часами, проведенными на Австрийском пляже.
Время сгладило острые, как зазубрины, горести и беды того времени. Память неохотно обращается к ним. Она предпочитает вспоминать прошлое в его светлом виде, сквозь тогдашние редкие радости. Они стали на протяжении дальнейших лет значительными и вескими. Нашу веру в счастливую долю своего народа не могли разрушить ни тиф, ни голод, ни обледенелая каморка, ни полная неуверенность в завтрашнем дне.
Молодость была непобедима. Она могла превратить Дантов ад в захватывающее зрелище. Опухая от голода, мы все же чувствовали слабый запах первого цветка за окном дворницкой и радовались этому.
Я воспринял и запомнил те грозные годы вместе со многими своими сверстниками как великую и неоспоримую надежду.
Эта надежда присутствовала всегда и во всем. Она проникала в сознание, как отблеск солнца сквозь тяжелые тучи зимнего одесского неба. И какой-нибудь замерзший, посыпанный солью мороза стебель лебеды во дворе вдруг освещался неизвестно откуда теплым светом, и в этом освещении уже чувствовалось сияющее приближение весны.
Однажды на Австрийском пляже ко мне и Володе Головчинеру подсел маленький картавый человек с томными глазами. В руке у него была выгоревшая морская фуражка, потерявшая всякую форму.
В фуражке этот человек носил целую груду абрикосов, которыми и стал нас угощать.
Когда мы сообща съели абрикосы, неизвестный человек назвал себя бывшим сотрудником газеты «Русское слово» Евгением Ивановым [2].
– Вы, наверное, уже слышали про меня, про Женьку Иванова? – спросил он, улыбаясь и показывая мелкие острые зубы. – Я заработал славу авантюриста. Но все это чистая одесская брехня! К вам у меня два предложения. И не с кондачка, а на полном серьезе.
Он лихо надел на затылок морскую фуражку и похлопал меня по плечу.
– Первое, – сказал он, – состоит в том, что через две недели в Одессе начнет выходить морская газета «Моряк». Вы видите перед собой технического редактора этой газеты. Идите работать ко мне. Я знаю вас понаслышке. Мы завинтим такую газету, что перед ней померкнут романы Дюма-отца и Буссенара. Мы будем печатать ее на специально заказанной бумаге из саргассовых водорослей. Мы зажмем вот в эту жменю, – он сжал в кулак маленькие пальцы, – все моря земного шара и выдавим из них, как сок из ананаса, столько великолепного материала, что через пятьдесят лет за каждый номер «Моряка» коллекционеры будут платить по сто рублей золотом.
Это было, конечно, неслыханное вранье. Я смотрел на него. Он так увлекся, что в уголках его губ начала пузыриться, как у детей, слюна.
– Я не шучу, – сказал он, засмеявшись. – Хотите быть секретарем редакции? Согласны?
– Согласен, – ответил я не задумываясь. Но Володя Головчинер отказался работать в «Моряке», сославшись на то, что он не журналист и к тому же заведует отделом в Опродкомгубе.
– Ну и сидите в вашем Опродкомгубе, – пренебрежительно сказал Иванов. – Там вы не сможете достать даже бутылку патоки, чтобы устроить торжественный чай с кукурузными сухарями по случаю открытия редакции. Ведь не сможете! Ну, а второе предложение гораздо проще. Пока то да се, не раздеться ли нам с вами, не пойти ли вон на те скалы и не наколупать ли побольше мидий на ужин? Орудие производства у меня есть.
Он вытащил из-за пазухи зазубренный австрийский штык.
Володя не захотел лезть в воду. Он был великолепным пловцом, но на пляже его всегда разбирала лень.
Мы с Ивановым разделись и пошли к соседним скалам.
– Мидии, – сказал Иванов, – мы будем складывать в мою фуражку.
Ловля мидий свелась к тому, что я, раздирая себе в кровь руки, отковыривал мидий от скал тупым штыком, а Иванов складывал их в свою мокрую фуражку.
Но ловля длилась недолго. Довольно грубый женский голос закричал с пляжа:
– Женька! Куда полез? Выходи сейчас же!
– Маринушка, – закричал в ответ Иванов льстивым голосом, – да я же только…
– Долго я буду тебя ждать, босяк? – снова закричала женщина, и я наконец увидел ее. – Вылазь, говорю! Хочешь схватить воспаление легких? Себя не жалеешь, так хоть бы о детях подумал.
– Моя жена, – сказал мне доверительно Иванов, – Марина. Приперлась-таки, стерва. Необыкновенная стерва! Но чудная женщина. Придется идти.
Марина оказалась волоокой и смуглой, как цыганка, огромной женщиной с черными усиками. Она потрясла руку мне и Володе и сказала:
– Приходите сегодня до нас вечером. Я достала шматок свинины. Зажарим ее и слопаем с мамалыгой. А Женька у меня шкодливый, как кот. Его с глаз спускать нельзя. Даром что такой маленький и изящный, как балерина, а бабник первостатейный. Журналист он, правда, замечательный, у него к этому настоящий талант, но любит бросаться во всякие аферы и комбинации.
– Замолчи! – сказал Женька, прыгая на одной ноге и натягивая парусиновые штаны. – Лезешь не в свое дело, а хлястик на брюках оторван.
– Если он вас уже пригласил в «Моряк», – продолжала Марина, не обратив внимания на слова Женьки, – то вы вдвоем сделаете чудесную газету. Но только смотрите, чтобы он не зарапортовался. Характер у него кошмарный.
Так на Австрийском пляже я стал сотрудником газеты «Моряк» и до сих пор считаю, что мне повезло. Доказать это я смогу только дальнейшим рассказом.
За две недели, что остались до начала моей работы в «Моряке», случилось несколько событий. Самое печальное из них – смерть сестры Торелли.
Ее звали Рахилью. Она заболела новой в то время болезнью «испанкой». Это был жесточайший грипп с осложнениями.
Торелли перестал ходить в Опродкомгуб. Он сам ухаживал за сестрой, как санитар. Мы с Володей часто заходили проведать Рахиль, хотя Торелли каждый раз пугался и пытался выгнать нас, боясь, что мы заразимся.
Володя Головчинер достал где-то кусок старого глицеринового мыла и подарил его Рахили. Несмотря на жар и слабость, Рахиль всплеснула руками от радости и так покраснела, что веснушки на ее лице превратились в бледные пятнышки.
Не только Рахиль, но и мы рассматривали на просвет кусок этого чудесного мыла. Оно поблескивало золотистыми слоями и издавало тончайший, хотя и несколько усохший запах.
Однажды Торелли надо было пойти в город, некого было оставить с Рахилью, и он попросил меня посидеть с ней, но только держаться у самой двери.
Я к тому времени уже ушел из Опродкомгуба и потому весь день был свободен.
Рахиль лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Кусок глицеринового мыла она положила себе на грудь и сжимала его сильными пальцами скрипачки. Рахиль училась играть на скрипке у одесской музыкальной знаменитости – Наума Токаря.
«Знаменитость» прекрасно «ставила руку» своим ученикам и «делала им пальцы», но была человеком практическим и лишенным возвышенности.
«Как вы играете эту вещь! – кричал Токарь какому-нибудь ученику. – Где мягкость? Где файность? Где сладость? Представьте себе, что ваша мама Розалия Иосифовна сварила свое знаменитое варенье из черешен и вы ожидаете, что сейчас будете его кушать. У вас даже текут слюнки. Вот как надо играть эту вещь! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая!».
При этом маэстро сердито отбивал такт ногой. Рахиль редко упоминала о своей скрипичной игре. Сейчас она открыла воспаленные глаза и сказала мне:
– Не говорите ничего Абраму, но я знаю, что скоро умру. И он похоронит меня на еврейском кладбище, где лежат отец, мама и брат Аркаша. Оно очень скучное, это кладбище. Ради бога, не уверяйте меня, что я поправлюсь, что щеки у меня сделаются красными, как помидоры, и я еще, может быть, выйду замуж за кудрявого молодого человека в рубашке «апаш» и с серебряной цепкой от часов. Все это я уже сто раз слышала от Абрама. А вы лучше скажите мне, где остров Майорка.
Ознакомительная версия.