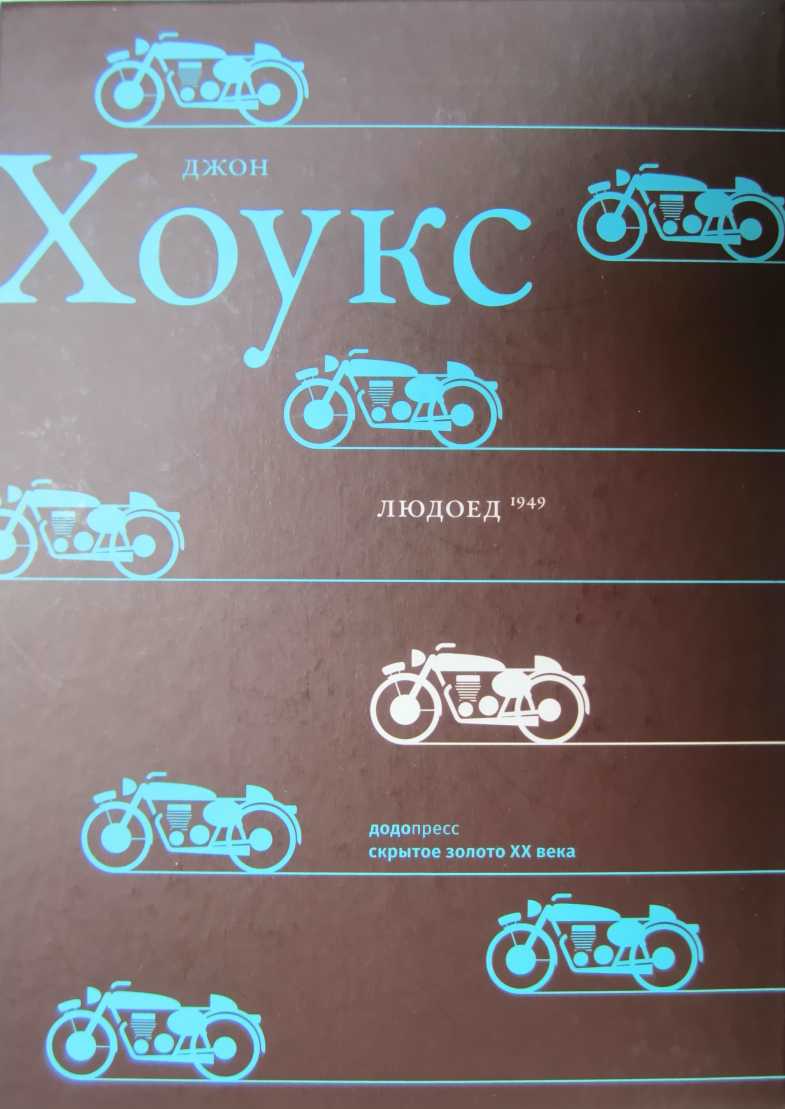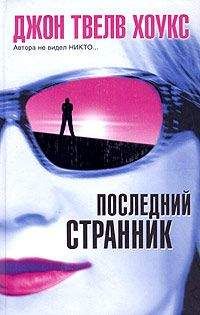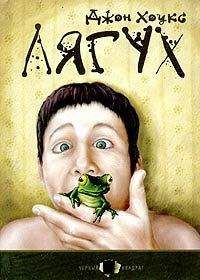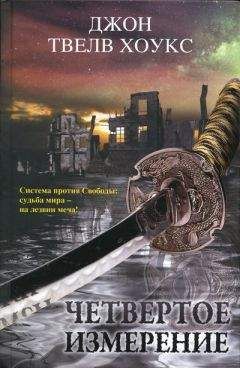головами их, вправленные в один из куполов, крупные часы пробили одиннадцать. Торопливо вбегала и выбегала Герта, толкая тележку, груженную салфетками, булочками, ножами, всевозможными соусами и кастрюльками недоваренных, опрятно вскипяченных яиц.
— Бедняга, — сказала она, промокая долгий потек свежей яичной воды у него на мундире, то и дело обращая гневный взор на Стеллу, как будто это сама бедная барышня толканула его под веснушчатую руку и заставила длинную полупрозрачную вожжу скользнуть ему на грудь. Стелла нахмурилась в ответ, разбрасывая крошки по столику и опрокидывая кубок — на кофейнике зашипел глоток воды. — Смотри, что делаешь, — рявкнула Герта, ее шлепанцы сердито затопотали по ковру.
Этим утром ему удалось захватить пальцами розовые ломтики, но, проскальзывая в собственном масляном аромате, они вновь и вновь шлепались на скатерть неровными кучками трепещущего желе. Стелла подумала об Эрни и улыбнулась через цветистый стол своему отцу, с восхитительным интересом глянула на его скользкие руки.
Мальчик не осознал, что сказал, 1870-й, много мертвецов понадобилось бы, чтоб окружить Париж [25], — и ответственность, вот чего не понимал он, или никто не мог в такой манере разговаривать, гордыня в выси.
— Война, — произнес ее отец, и сквозь папоротники во взоре его сверкнуло ужасное пламя. — Война, — и он слегка подался вперед, словно бы стукнуть ее, но рука его приподнялась лишь отчасти, задрожала и рухнула обратно на тарелку. Она прекратила улыбаться. — Где вокзал? — спросил он.
Стелла миг разглядывала его вопрошающее лицо, затем продолжила есть. Ей было жаль.
— Он попросту хочет в уборную, — сказала Герта и, швырнув себя под его худое прямое туловище, вывела наружу, а пылевая тряпица из белого кружева у нее на голове затрепетала. В коридоре мимо пролязгали двое мальчиков, единым движеньем шагнули прочь с дороги. Кухарка неистово разогревала еще булочек в печи, что, как паровой котел, не давала угаснуть пламени под кастрюлькой кофе, бегала от буфета к буфету, собирая еще соков и специй, на вертел насадила крупный окорок. Стелла потянула за длинную парчовую перевязь и услышала, как посреди лязга кастрюль, круженья воды звякнул колокольчик. Вошла знакомая Герты, по-прежнему в бурой шали и шляпке, усыпанной фиалками, все еще цепляясь за бумажный пакет, на пальцах сало.
— Еще гренков, — сказала Стелла.
— А, гренки, — сказала женщина и исчезла.
Стелла подумала, что отец ее очень страдает. В некоторые часы дня она прогуливалась с ним туда и сюда по прекрасным тихим коридорам, рука его лишь слегка покоилась на ее предплечье, на ссохшихся устах улыбка. Иногда страдала она сама, хотя обычно — вечером, в синих тенях своей комнаты, никогда не поутру, ибо знала, что в сумерках увидит его полускрытым в полном пышном облаченье за высокими зажженными свечами. Стены столовой с приходом ночи темнели, столовое серебро вспыхивало от язычков пламени, на отца падали громадные тени от белых цветов, а не папоротников, покрывая его мнимой переменой, которая ее пугала. Теми вечерами Стелла вспоминала, как с нею, еще маленькой девочкой, он разговаривал, покуда голос у него не пропал, и она слышала, как голос его рассказывает об осадах и ухаживаниях, об изумрудных землях, и она желала, чтоб он по-прежнему оставался отцом. Вечерами же различать ей не удавалось.
Из нескольких долгих бесед с матерью она знала, что в пяти поколениях мужчины были высоки, пригожи, благоразумные и благородные солдаты, все в точности походили друг на друга, словно братья-орлы, и все трое мужчин умерли молодыми. Ее отец так пережил черты тех других мужчин и свою семью, что более не существовал и не мог даже говорить. Мужчина, сокрытый за свечами, сбивал ее с толку всеми своими прожитыми годами.
— Незачем мне докладывать, куда ему нужно сходить, — пробормотала она, и знакомая Герты, вернувшаяся с гренками, смешалась от ее слов.
Волосы прямо у шеи были у нее гнедыми, остальные — лимонными и, когда она шла, порывисто скользили, словно она уже там — там, в мавзолее, где лежал он в гипсе, где под ее молитву заметали розовые лепестки. Ибо в жарчайшую часть полудня дом усыхал, и его белое лицо оказывалось в длительном покое, идиот за завтраком, маршал за ужином, становился стариком в маске в жаре солнца, куда б ни шла она. Она бы с радостью вырезала эпитафию сама ради одного лишь беглого взгляда, прежде чем дверь замкнули на щеколду, — от полуденной жары мраморную пыль она ощущала как свежую. Никогда на свете не могла б она его постичь — лишь обрезки из материной тщательно оберегаемой грудной клети. Иногда, если Стелла выглядела особенно прекрасной, чувствовала она, будто рухнет вместе с домом вокруг нее, когда он наконец уйдет.
Ее комната прямо у шиферной кровли была тепла, морские пейзажи, размеренно развешанные по стенам, заполняли ее синевой, птицы под окном смолкли. Ютта, нескладное одиннадцатилетнее дитя, дремала в конце коридора в загончике маленьком и низеньком, что мог бы принадлежать школе-интернату или женской обители, белой и голой. Рот у нее открылся, и она тяжко сопела, худые ноги разведены, как будто она скакала на лошади. Стелла закрепила шляпку розовыми и желтыми лентами, натянула белые перчатки, пошла было вниз по лестнице — и остановилась прислушаться к тихим мерзким шумам спящего дитя. Снаружи ее перед домом застало молчанье толпы, и все глаза смотрели вверх. Там, на узком балконе, притиснувшись к Герте, стоял ее отец, по-прежнему опираясь на нее, а она улыбалась, и подле мундира его трепетали ее кружева. Тут же заговорил он, и единственное слово пало на них, притихших и возбужденных.
— Победа. — Миг ждали они большего, наблюдали, слушали, а затем разразились воплями признания, пока старика вводили обратно в дом. Они не сознавали, что он считал войну, которая только началась, уже завершившейся, и подхватили это слово, и отправили его в полет вдоль по улице от одного потрясенного гражданина к другому. Стелла пошла, ее парасолька ловила сень громадной шеренги деревьев.
Мужчины приподымали шляпы, мимо катили подводы, и тяжкие крупы величественно кивали меж оглобель, лязгали цепи, жалили кнуты; в лавках вяло висели флажки, как будто праздник. Ей ухмылялось неимоверно громадное фаршированное чучело рыбы, солнечный свет скакал меж голубых плавников, вокруг кучами громоздились мелкие мидии, серые и мокрые, словно ее же икра на колотом льду. Часть улицы оранжевым покрывала маркиза, прохожие разделялись на равномерные болтливые дорожки, а детвора, шедшая в парк, щерилась, буксируя их вперед. На промышленном заводе Круппа цепями и стрелами раскачивали громадные стальные бочки, покрытые светло-зеленым тавотом и нацеленные сквозь зарешеченные световые люки к летнему