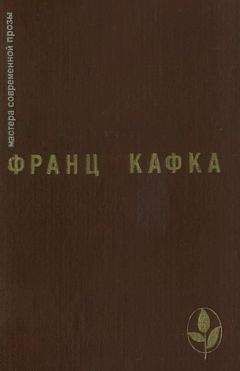— Концу мира?
— Если бы хоть это можно было сказать с уверенностью. Но ни в чем нельзя быть уверенным. Потому ничего нельзя сказать. Можно только кричать, заикаться, хрипеть. Конвейер жизни несет человека куда-то — неизвестно куда. Человек превращается в вещь, в предмет, перестает быть живым существом.
* * *
Кафка листает принесенную Г. Яноухом книгу Альфонса Паке «Дух русской революции»[179].
— Спасибо. У меня сейчас нет времени. А жаль. Люди в России пытаются построить совершенно справедливый мир. Это религиозное дело.
— Но ведь большевизм выступает против религии.
— Он делает это потому, что он сам — религия. Интервенции, мятежи и блокады — что это такое? Это небольшие прелюдии к великим, лютым религиозным войнам, которые пробушуют над миром.
* * *
Встретив большую группу рабочих, направляющихся со знаменами и плакатами на собрание, Кафка заметил:
— Эти люди так уверены в себе, решительны и хорошо настроены. Они овладели улицей и потому думают, что овладели миром. Но они ошибаются. За ними уже стоят секретари, чиновники, профессиональные политики — все эти современные султаны, которым они готовят путь к власти.
— Вы не верите в силу масс?
— Я вижу ее, эту бесформенную, казалось бы неукротимую силу масс, которая хочет, чтобы ее укротили и оформили. В конце всякого подлинно революционного процесса появляется какой-нибудь Наполеон Бонапарт.
— Вы не верите в дальнейшее развертывание русской революции?
— Чем шире разливается половодье, тем более мелкой и мутной становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии. Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги[180].
* * *
Г. Яноух рассказал Кафке о докладе, организованном союзом студентов-марксистов в клубе социал-демократов и посвященном положению в России.
— Я ничего не смыслю в политических делах. Это, разумеется, недостаток, от которого я бы охотно избавился. Но у меня так много недостатков! Самое близкое все больше и больше уходит от меня вдаль. Я восхищаюсь Максом Бродом, который хорошо ориентируется в дебрях политики. Он часто и очень много и долго рассказывает мне о текущих событиях. Я слушаю его, как сейчас слушаю вас, и тем не менее не могу полностью понять их.
— Я неясно рассказывал?
— Вы меня не поняли. Вы хорошо рассказывали. Дело во мне. Война, революция в России и беды всего мира представляются мне половодьем зла. Это наводнение. Война открыла шлюзы хаоса. Наружные вспомогательные конструкции человеческого существования рушатся. Исторический процесс держится уже не на личности, а только на массах. Нас толкают, теснят, сметают. Мы претерпеваем историю.
— Стало быть, вы считаете, что человек больше не является сотворцом мира?
— Вы опять не поняли меня. Напротив, человек отказался от участия в созидании мира и ответственности за него.
— Это не так. Разве вы не видите роста рабочей партии? Активности масс?
— В том-то и дело. Движение лишает нас возможности созерцания. Наш кругозор сужается. Сами того не замечая, мы теряем голову, не теряя жизни.
— Вы считаете, что люди становятся безответственными?
— Мы все живем так, словно мы самодержцы. Из-за этого мы становимся нищими.
— К чему это приведет?
— Ответы — лишь желания и обещания. Но они не дают уверенности.
— Если нет уверенности, чем в таком случае является вся жизнь?
— Крушением. Возможно, грехопадением.
— Что есть грех?
— Что есть грех… Мы знаем слово и деяние, но мы утратили ощущение и познание. Может быть, это уже есть проклятие, покинутость богом, безумие… Не ломайте себе голову над тем, что я вам сказал.
— Почему? Вы ведь говорили совершенно серьезно.
— Именно поэтому. Моя серьезность может подействовать на вас, как яд. Вы молоды.
— Но ведь молодость не недостаток. Она не может помешать мне думать.
— Я вижу, мы сегодня действительно не понимаем друг друга. Но это даже хорошо. Непонимание защитит вас от моего злого пессимизма, который и есть грех.
* * *
Перелистывая книгу «Освобождение человечества, свободолюбивые идеи в прошлом и настоящем», Кафка долго рассматривал репродукции картин «Война» Арнольда Бёклина и «Апофеоз войны» В. В. Верещагина.
— В сущности, войны еще никогда не изображались правильно. Обычно показывают только отдельные явления или результаты — вот как эта пирамида черепов. Но самое страшное в войне — уничтожение всех существующих гарантий и соглашений. Физическое, животное заглушает и душит все духовное. Это как раковая болезнь. Человек живет уже не годы, месяцы, дни, часы, а только мгновения. И даже в течение мгновения он не живет. Он лишь осознает его. Он просто существует.
— Это вызывается близостью смерти.
— Это вызывается знанием и боязнью смерти.
— Разве это не одно и то же?
— Нет, это совсем не одно и то же. Тот, кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью лишь результат неосуществившейся жизни. Это выражение измены ей.
* * *
По поводу бесчисленных международных конференций послевоенного времени:
— У этих больших политических собраний уровень обычных встреч в кафе. Люди очень много и очень громко говорят, для того чтобы сказать как можно меньше. Это очень шумное молчание. По-настоящему существенны и интересны при этом лишь закулисные сделки, о которых не упоминают ни единым словом.
— По вашему мнению, пресса не служит истине.
— Истина относится к тем немногим действительно великим ценностям жизни, которые нельзя купить. Человек получает их в дар, так же как любовь или красоту — Газета же — товар, которым торгуют.
— Значит, пресса служит оглуплению человечества.
— Нет, нет! Всё, в том числе и ложь, служит истине. Тени не гасят солнца.
* * *
В одной газетной статье говорится о плохих перспективах мира в Европе.
— Но ведь мирный договор окончательный, — заметил Г. Яноух.
— Нет ничего окончательного. По словам Авраама Линкольна, ничто не урегулировано окончательно, пока не урегулировано справедливо.
— Когда же это будет?
— Кто знает? Люди не боги. История создается ошибками и героизмом любого самого незначительного момента. Когда бросают камень в реку, на воде образуются круги. Но большинство людей живет без сознания сверхиндивидуальной ответственности, и в этом, мне кажется, источник всех бед.
— Что вы скажете по поводу Макса Хёльца[181]!
— Разве можно злом достичь добра? В сущности, сила, которая пытается противостоять судьбе, есть слабость, Куда сильнее тот, кто готов все отдать и все принять. Но этого не может понять маркиз де Сад.
— Маркиз де Сад?
— Да, маркиз де Сад, историю которого вы дали мне читать, поистине покровитель нашего времени… Он ощущает радость, только заставляя страдать других, подобно тому как роскошь богатых оплачивается нищетой бедных.
Г. Яноух показывает Кафке репродукции картин Винсента Ван Гога.
— Как прекрасен этот сад при кафе на фоне фиолетовой ночи. Другие картины тоже хороши. Но этот сад очаровывает меня. Вы знаете его рисунки?
— Нет, их я не знаю.
— Жаль. Они воспроизведены в книге «Письма из сумасшедшего дома». Может быть, вы где-нибудь увидите эту книгу. Я так хотел бы уметь рисовать. Я все время пытаюсь делать это. Но ничего не получается. Только какие-то иероглифы, которые потом и сам не могу расшифровать.
* * *
По поводу антологии поэтов-экспрессионистов[182]:
— Книга навевает на меня грусть. Поэты протягивают руки навстречу людям. Но люди видят не дружеские руки, а судорожно сжатые кулаки, нацеленные в глаза и сердце.
* * *
В разговоре о новом издании платоновских законов идеального государства Г. Яноух высказал сомнение, правильно ли поступает Платон, исключая поэтов из своего государства.
— Это вполне понятно. Поэты пытаются заменить людям глаза, чтобы тем самым изменить действительность. Потому они, в сущности, враждебные государству элементы, — они ведь хотят перемен. Государство же и вместе с ним все его преданные слуги хотят незыблемости.
* * *
На выставке французской живописи, где были и картины Пикассо — кубистский натюрморт и розовые женщины с огромными ногами, — Г, Яноух назвал Пикассо «озорным деформатором».