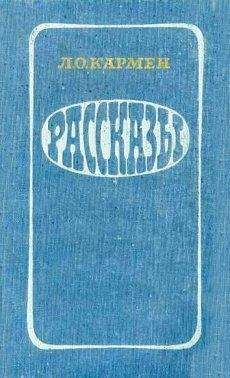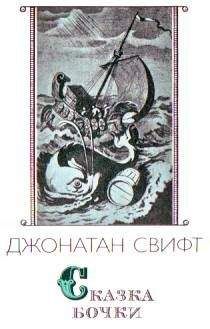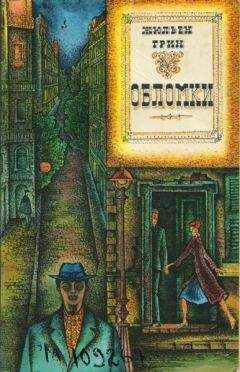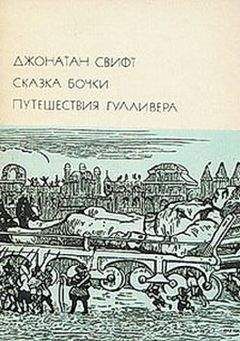– А-а! – вскрикнула она, и ее крик, подобно ножу, полоснул его по сердцу…
Крыса долго и бесполезно кружился в толпе, пока его чудом не вынесло за таможню, на Карантинную гавань и не натолкнуло на ховиру. Здесь он был в полной безопасности.
Это, однако, не помешало ему провести тревожную ночь. Всю ночь он дрожал и боялся, чтобы огонь не перебросило на Карантинную гавань.
Из своей норы он видел зарево. Оно затопило полнеба наподобие реки в половодье. Зарево часто и зловеще прорезывал острый и блестящий, как сталь, меч прожектора с броненосца.
Крыса также слышал эту ужасную дробь – тра-та-та-та – и вой обезумевшей тридцатитысячной толпы.
Мимо него пробежали один за другим, озираючись, несколько человек без шапок, с всклокоченными волосами. Один вскарабкался на невысокую каменную стену под обрывом, ведущим в парк, перемахнул через нее и, скомкавшись и сделавшись похожим на ежа, осторожно пополз наверх. Другой как-то странно присел на корточки – и ни с места, как заяц.
Крыса заснул только под утро.
Был полдень, когда он проснулся. Зарева больше не было видно. Вместо него кой-где низко стелилось пламя, но выстрелы слышались еще, хотя реже прежнего. Вдруг всю набережную потрясло так, точно в воду обрушился мол. Крыса помертвел.
«Началось!» – вырвалось у него.
Спустя некоторое время послышалось снова оглушительное: «Ба-а-а-ах!»
Крыса беспомощно заметался в своей ховире. Он с минуты на минуту ждал смерти.
Прошел час-два напряженного ожидания, но третьего выстрела не последовало.
В таком ожидании Крыса провел весь вечер.
Когда он проснулся на третий день, кругом было тихо. Небо чистое, синее. Мимо спокойно прошли два человека – моряк и чиновник с папиросой в зубах. Из беседы их он узнал, что броненосец ушел, что много народу перебито и город на военном положении.
Крыса набрался смелости и полез из ховиры. Он расправил онемевшие члены и направился к Таможенной площади.
Никогда площадь не была так пустынна, как сейчас. Все винные и съестные лавки, погребки, английские таверны, приюты, трактиры и обжорка были заколочены. Посреди, звонко постукивая о гранитную мостовую тяжелыми сапогами и шашками, расхаживал патруль, и кой-где к фасадам домов робко жались оборванные фигуры босяков.
Крыса почтительно обошел патруль и подковылял к двум босякам, стоявшим у Приморского приюта. Один, высокий, плечистый, с сизым носом, был сносчик Костя, другой – полежалыцик[1] Сеня.
– Жив? – презрительно спросил Костя.
– Жив, – ответил заискивающе Крыса.
– А я думал, что перевернулся.
– А много народу перевернулось, – сказал со вздохом Сеня. – Говорят, тыщу человек наберется.
– Какой там тыщу! – ответил Костя. – Больше. Сейчас только три платформы с покойниками провезли. А погорело-то сколько!
Крыса вспомнил про Мишу и побледнел.
– Там, где пили, там и крышка.
Костя вдруг сделал блаженное лицо и сказал, звонко прищелкнув языком:
– Зато выпито было сколько! Мам-ма!.. Я один пять посуд шампанского выдул, две малаги и одну рому, а Гришка Косарь – целый бочонок портвейну. Вот крест. Дай бог в другой раз не хуже!
Крыса нахмурился и проговорил мрачно:
– Счастье большое! Душу чертям за выпивку продали, порт разорили. Была корова, а вы взяли ее и зарезали. Идолы!
– А много нам от этой коровы молока перепало? – сердито спросил Костя.
– Сколько бы не перепадало, жить можно было.
– Тебе-то ничего… жить можно было, потому что много тебе надо, дикарю-обормоту… Тоже жизнь!.. Без бани!.. Обжорка!.. А это ничего, что порт сгорел. Не умерли еще рыбалки,[2] косовицы и Юзовка. Сегодня же заберу причиндалы, велю на прощанье в «Испании» завести машину, пусть «Сухою корочкой питалась» сыграют, и марш в дорогу.
– Тебе хорошо, – проворчал завистливо Крыса, – ты молодой, здоровый, а мне – шестой десяток. Куда денусь?
– А нам какое дело?!
– Эх, нехорошо, грешно! Крыса покачал головой.
– Чего?
Крыса скривил рот и хрипло и с фальшивой улыбкой спросил:
– Ты тоже… поджигал?
– Да! – ответил Костя, смело посмотрев ему в глаза.
– А знаешь, что за такую штуку тебя могут по закону?…
Лицо Кости исказилось злобой. Он придвинулся к Крысе, схватил его за ворот и спросил грозно:
– А ты, может быть, капать, доносить?
Он развернулся, и Крыса отлетел шагов на десять в сторону.
Крыса неуклюже поднялся с земли и, прихрамывая и косясь испуганно на Костю, заковылял по направлению к эстакаде.
– Только попробуй капать! – крикнул ему вдогонку Костя. – Останешься доволен!
Крыса заковылял шибче и заплакал.
Крыса плакал не столько от боли, сколько от того, что порт разорен, погиб и вместе с ним погиб и он – типичнейший представитель его.
То, что произошло на его глазах, представлялось ему диким, преступным, непоправимым.
Порт был его логовищем в течение сорока лет, и он чувствовал себя в нем превосходно, как истый портовый дикарь. Его не смущали ни смрадные приюты, ни обжорка, где кормят падалью.
Семь лет назад в порту организовалось портовое санитарное попечительство. Крыса фыркал и ворчал. Они так свыклись с грязью.
А когда отстроилась столовая, чистая, со свежей пищей, они игнорировали ее. Ходили назло в обжорку. Они восставали против всяких новшеств.
Но вот настало время, когда жизнь в порту стала невыносима, и все чаще и чаще стали раздаваться молодые протестующие голоса:
– Так жить нельзя!
– Мы работаем, как животные, нас бьют угольными кадками, лебедкой, мы гибнем в трюмах, задыхаемся в угольной и пшеничной пыли, и какая награда за все?
– Спим в сорных ящиках, мерзнем в вагонах на набережной!
– Наживаются всякие Родоконакки, Карапатницкие, Траппани, Плюгины!
– Долой Плюгина!
– Баню пусть дают нам!
Больше всех протестовал Костя. Он грозил кулаком городу, повисшему над портом своими роскошными палаццо, вылощенным господам, сидящим на эспланаде и потягивающим через длинные золотистые соломинки из граненых бокалов гренадин и мазагран.
– Кровь нашу пьете!
– Погодите!
От этих смелых речей у пропитанных алкоголем и живьем разлагающихся дикарей замирали сердца. Спокойствию и скотскому житью их грозила опасность.
И вот от пламенных протестов и угроз новые, ненавистные им люди перешли к делу…
Крыса, ковыляя к эстакаде, вспомнил приход броненосца, тысячные толпы, палатку, матроса. Матрос лежит, накрытый красной материей, спокойный, со скрещенными руками. В голове мерцает свеча…
«Потом, потом, господи!..» Все завертелось перед ним, заплясало, окрасилось пламенем…
Крыса вспомнил дальше, как в отчаянии он метался в обезумевшей толпе, дергал за рукав то одного, то другого босяка и слезно умолял:
– Брось! Опомнись! Себя же и всех нас губишь! Ему удалось у одного вырвать факел. Но прочие не слушали его. Толкали его, смеялись, и он плакал, глядя, как пылают пароходы, пакгаузы, эстакада, клепки. Ему казалось, что конец света настал.
Море, небо и земля были красные. О брекватер разбивались огненные волны, и вместо брызг над ним носились искры.
И среди этого моря огня Крыса видел одного Костю. В своей расстегнутой синей голландке, босой, с копной спутанных волос, он казался вдвое больше обыкновенного. Лицо его было искажено торжеством и злорадством.
Как ураган носился он по набережной, размахивая факелом…
* * *
– Товарищ! – услышал вдруг позади себя Крыса. Он вздрогнул. Перед ним стоял Вавило Апостол, старый дикарь-угольщик. Вид у него, как и у всех дикарей, был пришибленный.
– А! Здорово! – обрадовался Крыса. – Ты как же цел остался?
– Богу карантинному молился.
– В бочке или вагоне?
– Зачем? В баржане. Нас там пятьсот человек молилось. Менты заперли и три дня не пускали, боялись, что к сицивилистам и матросам пристанем и хай делать будем. Ну, и досада же брала нас! Там, понимаешь, в гавани щимпанское пьют, малагу дуют, водку и коньяк ведрами хлещут, всяку штуку, а мы тут как дураки сиди. А ты, товарищ, пробовал это самое щимпанское? В жизни ни разу не пил его.
– Попробовал.
– Какое оно на скус?
– Да ничего.
– Счастливый, – промолвил с завистью Апостол.
– Будет теперь всем щимпанское, – проговорил угрюмо Крыса. – Все подохнем с голоду.
– Ох-хо-хо! – вздохнул Апостол.
– Деньги есть? – неожиданно спросил Крыса.
– Откуда оне взялись?…
– Смерть как жрать и пить хочется. Крыса сделал кислое лицо.
– Боже! – продолжал он тоскливо. – Такой порт разорить! И главное: за что?! Захотелось чертям устроить все по-французскому. Чтобы никакого начальства. Ну, да показали же им, как без начальства! С нами, брат, не шуги! У нас войск больше, чем ангелов на небе…
– Тебя бы в генералы от инфантерии произвести, – усмехнулся Апостол, – всех бы изрубил.