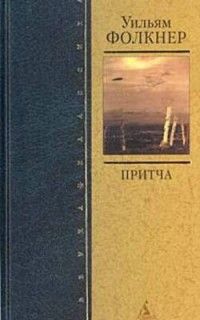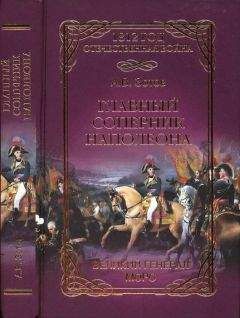— Она же съела хлеб, — сказал рослый. — С этим кусочком должны кончиться и все ее страдания, не так ли?
Сержант, в сущности, уже повернулся, уже уходил, но этот голос, говор остановил его — говор не мягкий, а просто негромкий, не робкий, а вкрадчивый, да еще в довершение всего ироничный; поэтому, замерев на секунду, на миг, прежде чем обернуться, он представил, ощутил все замкнутые, настороженные лица, глядящие не на него и не на рослого, а словно на что-то неуловимое, созданное в воздухе его голосом. Потом сержант понял. Дело было в его мундире. Когда он повернулся и взглянул не только на рослого, но и на всех окружающих, ему показалось, что из-за какого-то давнего, неизбывного, всеобъемлющего несчастья, с которым смирился так давно, что теперь, случайно вспоминая о нем, не испытывал даже сожаления, он смотрит на весь человеческий род через неодолимый барьер профессии, способа зарабатывать на жизнь, которому двадцать лет назад не просто посвятил, но и принес в жертву не только свою жизнь, но и свою плоть и кровь; показалось, что весь круг тихих, настороженных лиц оплеван легкой, неотвратимой отраженной голубизной. Так было всегда, менялся лишь цвет-желто-грязный с белым в пустыне и тропиках, затем резкий, чистый красно-синий, цвет старого мундира, а теперь изменчиво-голубой нового, введенного три года назад. Он с самого начала предвидел это, и не только предвидел, но и принял, расстался с волей, страхом голода и самостоятельных решений ради права и привилегии получать несколько гарантированных су в день ценой повиновения, жизни под открытым небом и риска хрупкими костями и плотью, ради права не думать о хлебе насущном. И вот уже двадцать лет, будучи отлучен, обособлен этим неотъемлемым правом от мира гражданских, он взирал на всех его представителей с каким-то презрением, как на непрошеных, бесправных, терпимых лишь из милости чужаков; он сам и ему подобные, сплетясь в нерушимое братство стойких и доблестных, пролагали себе дорогу в этом мире, рассекая его острым форштевнем нашивок, орденских планок, звезд и лент, словно броненосец (или будто существующий вот уже год танк) косяк рыбы. Но теперь с ним что-то произошло. Оглядывая лица окружающих (все выжидающе смотрели на него, кроме молодой женщины, доедавшей укрытый тонкими грязными ладонями хлеб, так что он не один, а вдвоем с безымянной, одинокой женщиной оказался словно бы в узком, душном колодце), сержант с каким-то ужасом ощутил, что это он здесь чужой, и не только чужой, но и отверженный; что за право и возможность носить на груди погрязневшего в боях кителя почерневшие в боях символические нашивки доблести, стойкости и верности, физических страданий и лишений он двадцать лет назад продал свое естественное право принадлежать к человеческому роду. Но не выказал этого. Нося нашивки, сделать этого он не мог, а то, как он носил их, говорило, что и не захотел бы.
— Ну и что? — спросил он.
— Идти в атаку отказался весь полк, — негромко сказал рослый своим рокочущим, низким, мягким, почти задумчивым баритоном. — Все до одного. В ноль часов из траншеи не вылез никто, кроме офицеров и нескольких сержантов. Разве не так?
— Ну и что? — повторил сержант.
— Почему же боши не атаковали, — сказал рослый, — когда увидели, что наши остались в траншее, что атака почему-то сорвалась? Велись и мощная артподготовка, и заградительный огонь, только когда он прекратился и нужно было идти в атаку, из траншеи вылезли только взводные, а солдаты и не подумали идти за ними. Немцы наверняка видели это, а? Если в течение четырех лет позиции разделяет какая-то тысяча метров, то противник видит, что атака сорвалась, а может быть — и почему. И нельзя сказать, что они испугались обстрела; люди вылезают из траншей и бегут в атаку прежде всего затем, чтобы их не накрыли чьи-нибудь снаряды — иногда приходится спасаться и от своих, разве не так?
Сержант смотрел только на рослого; этого было достаточно, потому что он ощущал присутствие остальных — притихшие, настороженные, они, затаив дыхание, жадно ловили каждое слово.
— Фельдмаршал, — злобно сказал сержант презрительным тоном. — Кажется, самое время взглянуть на документы в кармане твоего мундира. — Он протянул руку. — Дай-ка их сюда.
Рослый еще минуту спокойно глядел на него. Потом его рука скрылась под спецовкой и появилась наружу с бумагами, мятыми, грязными, потертыми на сгибе. Сержант развернул их. Однако, казалось, он даже не заглянул в документы, взгляд его снова забегал по неподвижным, сосредоточенным лицам, рослый по-прежнему безмятежно и выжидающе смотрел на него сверху вниз, а потом заговорил снова, сухо, спокойно, непринужденно, почти рассеянно:
— А вчера в полдень весь наш фронт прекратил огонь, велась лишь символическая стрельба, одно орудие на батарею — на каждые десять километров, англичане и американцы прекратили пальбу в пятнадцать часов, а когда все стихло, стало слышно, что боши сделали то же самое, так что к вечеру во Франции уже не было артогня, только символическую стрельбу пришлось пока оставить, ведь полная тишина, обрушась на людской род после четырехлетнего грохота, могла бы уничтожить его…
Сержант одним движением торопливо сложил бумаги и протянул их рослому. Очевидно, это была уловка, потому что не успел тот потянуться за ними, как сержант, не выпуская бумаг, схватил его за грудки и рванул к себе, однако на месте не устоял он сам; а не рослый, разбойничья физиономия сержанта оказалась нос к носу с его лицом, сержант оскалил гнилые, потерявшие цвет зубы, собираясь заговорить, однако не сказал ничего, потому что рослый спокойно, неторопливо продолжал:
— А теперь генерал Граньон везет сюда весь полк и хочет добиться у генералиссимуса разрешения на его расстрел, потому что, когда такой покой и тишина внезапно сваливаются на человеческий род…
— Никакой ты не фельдмаршал, — сказал сержант дрожащим от ярости голосом, — ты адвокат.
Он произнес это хрипло, злобно, но не громче, чем говорил рослый. Люди, стоявшие вокруг с застывшими, настороженными лицами, казалось, не слушали и даже не слышали ни того, ни другого, как и молодая женщина, продолжавшая неторопливо глодать прикрытый ладонями хлеб, а просто глядели на них пристально, безучастно, будто глухонемые.
— Спроси тех гадов, на которых ты пришел смотреть, они-то думают, что кто-то перестал воевать?
— Знаю, — сказал рослый. — Это я просто так. Ты же видел мои бумаги.
— Их увидит и адъютант начальника военной полиции, — сказал сержант и не отбросил рослого, а бросился от него, снова повернулся и, зажав в кулаке смятые бумаги, стал проталкиваться ладонями и локтями к бульвару, вдруг он остановился, резко вскинул голову и, как показалось, попытался приподняться всем телом, чтобы взглянуть поверх скученных голов и лиц в сторону старых городских ворот. Потом все услышали шум, не только сержант, уже скрывшийся за сомкнутыми винтовками, но и молодая женщина, она даже перестала жевать, прислушалась, и тут все стоящие вокруг отвернулись от нее к бульвару, не потому, что были равнодушны к ее беде и избавлению, а из-за шума, несущегося от старых городских ворот, словно порыв ветра. Хотя в шуме раздавались команды взводных стоящей вдоль тротуаров пехоте, он пока что представлял собой не столько голоса, сколько вздох, проносящийся по толпе. В город въезжал первый автомобиль: и теперь, когда при свете нового дня открывалась явь, казавшаяся в темноте сплошным кошмаром, ночная тревога, приутихшая под бременем ожидания, словно бы набиралась сил, чтобы залить их, подобно дневному свету, огромной слепящей волной.
Автомобиль вез трех генералов. Он ехал быстро, так быстро, что команды взводных и бряцанье винтовок, когда каждый взвод брал на караул, а потом по команде «вольно» опускал их к ноге, не только не прерывались, но и сливались друг с другом, поэтому казалось, будто автомобиль несется в неумолчном лязге металла, словно на невидимых крыльях со стальными перьями, — длинный, окрашенный, как самоходное орудие, автомобиль с развевающимся флажком главнокомандующего всех союзных армий; генералы сидели в автомобиле бок о бок в окружении блестящих, чинных адъютантов — трое стариков, командующих каждый своей армией, а один из них по общему решению и согласию командовал всеми тремя и, следовательно, всем, находящимся на этой половине континента, под и над ней — англичанин, американец, и между ними — генералиссимус: хрупкий седой человек с мудрым, проницательным и скептическим лицом, уже не верящий ни во что, кроме своего разочарования, своего ума и своей безграничной власти, — и люди ошеломленно застывали в изумлении и ужасе, а потом, когда под крики взводных снова раздавались стук каблуков и лязг винтовок, настораживались.
За автомобилем следовали грузовики. Они тоже ехали быстро, почти впритык друг к другу, и казалось, им не будет конца, потому что на них везли целый полк. Однако ни общих криков, ни отдельных приветственных восклицаний пока что не слышалось. Первый грузовик вызвал в еще не опомнившейся и не до конца верящей толпе лишь молчаливую суету, сумятицу; боль и ужас словно бы усиливались с приближением каждого грузовика, окутывали его и тянулись за ним; молчание лишь изредка нарушалось воплем какой-нибудь женщины, узнавшей одно из мелькающих мимо лиц — лицо проносилось и скрывалось, едва его успевали узнать, и крик, раздавшись, тут же тонул в реве следующего грузовика, и поэтому казалось, что грузовики несутся быстрее легкового автомобиля, словно ему, поскольку перед его капотом расстилалось полконтинента, спешить было незачем, тогда как грузовики, оставшийся путь которых можно было исчислять уже в секундах, подгонял стыд.