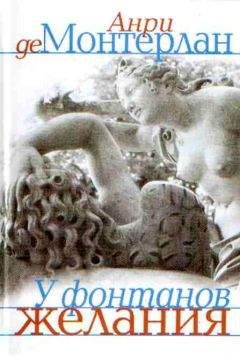Зуавы, находившиеся неподалеку на маневрах, принесли полсотни листочков издателю Турнье, славному малому, который всегда готов прийти на выручку литератору, плохо знакомому с местными нравами. Один капрал нашел шестьдесят листков, но потом выбросил их, так как, по его словам, решил, что это написал «какой-то влюбленный еврейчик». Почему «еврейчик»? Это навеки останется тайной капральской души. Вообразите, как бедняга расстроился, узнав, что держал в руках, а потом выкинул своего рода векселя, по которым мог получить около трех тысяч франков!
К одному из подобранных листков чья-то незнакомая рука привязала шерстяную нитку. Турнье сказал мне, что это, должно быть, ребенок смастерил себе бумажного змея. Я был растроган: страница из очерка «Неисцелимое», эти наспех нацарапанные жалобы и крики ужаса превратились в белое крыло, парящее в воздухе на радость малышу!
А еще один листок подобрала некая барышня, попросившая дозволения оставить его себе. Причем я даже не имел права взглянуть на этот листок, чтобы не испортить ей удовольствие. Женщины почему-то обожают облекать таинственностью то, в чем нет ровным счетом никакой тайны (и прежде всего — самих себя)! Я охотно принес прекрасной энтузиастке эту маленькую духовную жертву: говорят, именно такого рода жертвы особенно ласкают половое чувство. Но я выяснил: на той самой страничке была фраза, в которой я сознавался, что временами ощущал волнение при виде животных. Так вам и надо, милая барышня, в другой раз не будете подбирать бумажки в канаве.
Был еще листок, который мне вернули, а потом его кто-то украл и принес Турнье. Тот почуял неладное. Я сказал воришке, что «знаю все». Но скрыл от него, что считаю его поступок совершенно естественным. Этот поступок покоробил бы меня, если бы человек, совершивший его, был чем-то мне обязан.
В городе поговаривали, будто все это подстроено ради того, чтобы сделать мне рекламу. На восемьдесят шестой странице моей книжки вы найдете фразу, которую можно отнести к распространителям этих слухов.
Вернувшись на родину, я обнаружил просто-таки непомерное количество газетных заметок, посвященных этой истории. Создайте произведение, в которое будет вложена ваша плоть, ваша кровь, — и его встретят молчанием. А случись с вами какое-нибудь дурацкое недоразумение — и об этом будут кричать газеты даже в Америке. Тот, кто жаждет успеха, должен сделать своим девизом: «Чем глупее, тем лучше».
Разве не вправе я был сказать, что эти страницы, едва будучи написаны, уже успели наделать изрядный переполох?
Но самая, на мой взгляд, лучшая история еще впереди. В разговоре с одним официальным лицом в Тунисе, месье С., я выразил удивление тем обстоятельством, что сто пятьдесят страниц так и не нашлись. А он заметил, что на том месте, где потерялась моя тетрадка, часто пасутся стада коз, и что он не раз видел своими глазами, как эти рогатые скоты пожирают разбросанные в поле бумажки: быть может, плоды моих ночных бдений в конце концов попали в козлиные желудки; впрочем, я неточно выразился: как известно, в желудках все не кончается, и мои заветные мысли возвратились в лоно матери-земли, хоть и в такой, несправедливо презираемой форме. Не знаю, насколько тунисский чиновник был близок к правде, возможно, он фантазировал, но так или иначе, будь благословенна его версия! «Неисцелимое», этот вопль, исторгнутый из самого нутра человека, и, думаю, только лишь из нутра, в нутро и возвратился, причем в нутро дионисийского животного! Меня завораживает эта цикличность, в которой просматривается глубокое единство всего живого и образ великого Пана, коему я предан всей душой.
Быть может, мой почтенный собеседник хотел лишь мягко подшутить надо мной. Разумеется, он не понимал, какой царский дар он мне преподнес. Никогда не знаешь, что может оскорбить поэта, — и что может его утешить. Я охотно потерял бы еще целый ворох моей писанины, чтобы взамен получить еще одну, такую же блистательную выдумку. Но не это главное. Пусть уж лучше наши сочинения будут растоптаны бесчисленными стадами животных, дивных животных, неверующих и бессловесных, нежели суждениями стада безграмотных двуногих.
Париж, лето 1927 г.
Синкретизм и чередование
(посвящается Ромену Роллану) 1926
Люди придают значение различиям, ибо глаза им застилает невежество.
Кришна
В 1914 году Ромен Роллан поднялся не «над схваткой», как он утверждал, а лишь над интересами родной страны, поскольку предпочел им то, что он называет «духом человечности». Убежденность и мужество, с которыми он это сделал, не могут не вызвать уважения. И в особенности мужество: ведь в конце концов у одного может быть одна вера, у другого — другая, все равно как цвет волос. Быть твердо убежденным в чем-либо — это еще не достоинство. А не иметь убеждений вообще — отнюдь не порок.
Этой позицией он вызвал к себе ожесточенную ненависть. Причины этой ненависти когда-то объяснил картезианский монах Карруж в беседе с кардиналом де Ретцем: «Ваше поведение настолько безупречно, вы оказались на такой высоте, что все, кто неспособен подняться до этого, усматривают тут какую-то загадку; а в теперешние непростые и несчастливые времена всё, в чем видят загадку, вызывает ненависть» («Мемуары кардинала де Ретца»).
Среди противников Роллана, поддержавших войну, были интеллектуалы, которые в добровольном или невольном — по большей части добровольном — ослеплении разделяли позицию государства; были военные, которые шли на фронт, потому что их влекли туда боевой задор и исключительное чувство чести; и масса обычных людей, которые шли туда в порыве великодушия и повинуясь стадному инстинкту.
Кто захотел бы действительно подняться над схваткой на должную высоту, не размениваясь на посредственные горы Швейцарии, — тот не решился бы выбрать одну из этих позиций: и одна, и другая показались бы ему равно достойными уважения. За ними стоят два типа человеческой личности, и каждому из этих типов уготована своя роль в том, что мы, в порядке поэтической вольности, назовем божественным предначертанием.
Существует Дух человечности. И можно ли не прошептать на ухо его несправедливо осуждаемому защитнику: «Как хорошо, что на свете есть такой, как вы, и что вы живете во Франции»?
Но существуют также и человеческие страсти: патриотизм, тяга к самопожертвованию, ксенофобия, воинственные наклонности, и так далее, и тому подобное. И можем ли мы от них отречься, если они — неотъемлемая часть нас самих, плоть от плоти нашей? Их неистовый разгул красноречиво свидетельствует об их неподдельности. Если бы в нас был один только Дух человечности, что бы он нам дал? То, что дало бы стерильное бесстрастие стоиков, если бы ему только можно было следовать буквально.
В самом начале своей книги{1} Ромен Роллан противопоставляет две Германии, страну Гете и страну Аттилы, Германию «света», и Германию «тьмы». Любой человек, если только он достоин так называться, станет на сторону Гете. Однако такой непредвзятый ум, как Монтескье, называет Аттилу «одним из величайших монархов, о каких рассказывает История» и объясняет почему. Оставим в покое Аттилу, он слишком далек от нас. Но скажите, хотели бы вы, чтобы Наполеона никогда не существовало? Чтобы на свете не было греко-римского духа, основанного на всем том, что так отвратительно людям вроде Роллана? Разве в этом случае наследие веков не оказалось бы обедненным?
Ромен Роллан, в одном из писем, написанных младшему собрату и проникнутых великодушной симпатией, вы писали: «Ваша точка зрения прямо противоположна моей. Но быть ярыми противниками значит быть очень близкими друг другу (здесь и далее — курсив автора). И я восхищаюсь вами больше, чем кем-либо из моих друзей. Вы — самая мощная сила, какая есть сейчас во французской литературе. Теперь, когда я узнал о вас, мир стал для меня богаче. Во время нашего земного пути мы безмерно далеки друг от друга и видим разные созвездия. Но небо над нами — одно и то же. Ignis idem».
Ignis idem. Этот огонь, мировая душа, горит в каждой частице Вселенной, подобно тому, как жизнь теплится в каждом живом теле. Гете и Аттила происходят от одного и того же источника мировой энергии. Как явления природы они родственны друг другу. Красота и величие мира складываются не только из того, что вы зовете добром, но и из того, что у вас зовется злом, и Аттила способствует этому не меньше, чем Гете. Так будем же бороться с Аттилой, но при этом сознавая его высокое назначение, будем бороться с ним, проявляя к нему благосклонность, и, говоря начистоту, будем бороться, любя{2}.
И вы сами это прекрасно понимаете. «Человечество — это симфония могучих коллективных душ. Кто способен понять и полюбить его, лишь предварительно уничтожив те или иные из его составляющих, демонстрирует, что он — варвар». Эти строки принадлежат вашему перу. Что же получается? Стало быть, вы варвар, раз cтремитесь уничтожить империализм, одну из составляющих нашего мира? Как вы великолепны, когда проклинаете идолов — в начале девятой главы, по-моему, самой замечательной в вашей книге, — когда вы приносите в жертву Духу человечности всю непредсказуемость природы! А под конец вы превозносите Гераклита за то, что он видел в гармонии порождение раздора, — объясните же, как это уживается в вас с неприятием ненависти к чему бы то ни было? (Ненависть сама по себе не является злом, не обладает силой, не может иметь цели. Она становится хорошей или плохой смотря по тому, какое ей находят применение.)