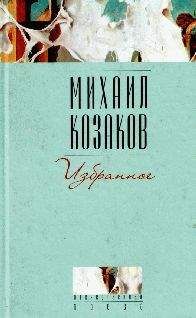А Степан Базулин мягко, но с гордостью улыбнулся тогда и подтолкнул Иоську:
— Мужик сказал — а, парень?… Вот и есть народушко, и руки у него легче. Понятно?
Был Степан Базулин из мужиков курских, а Иоська Кац — из елисаветградских мещан: и не уразуметь было Иоське оттого мужичьей базулинской гордости.
Сгорбился Иоська и тяжело вздохнул.
— Отец! — сказал он вдруг. — Невже помирать мне тут в молодости и опосля аплодисментов?…
В последнем слове своем он говорил долго, путанно и жадно: он проклинал ограбленного купца, царский режим, помещиков, он славил судей своих и все полки и дивизий Красной армии.
Эх, Иоська, Иоська, — сбивчивый парень, сын биндюжника темного, эх, Иоська — парень темный, из елисаветградских мещан!… Усмехнутся, не поверят твоим льстивым и припадающим, юродивым словам:
— Товарищи, сажайте меня на лошадь да отправьте напротив офицерской пули — да! Я вам говорю. Убейте вы меня целиком, а на расстрел из-за купца, из-за этой буржуйской конфискованной гниды — я не пойду… Мне незачем ходить на расстрел!…
А Степан Базулин, помяв рукой густую свою, как медвежья шкура, бороду, прокашлялся и попросил коротко — себе и своему товарищу — жизнь.
Люди встали из-за стола и ушли за кулисы — в совещательную комнату.
Оба подсудимых сидели, понуро глядя на окружающих. Оба они незримо, мысленно ушли вместе с судьями в совещательную комнату. Вот заскрипят половицы эстрады, тяжелыми, уверенными шагами пройдут по ним пять чужих, впервые увиденных, человек, и один из них, кто-то, бросит в притаившийся, напряженный зал слово, и поведет оно за собой налетчиков Иоську Глисту и Степана Базулина.
«Расстреляют» — убежденно повторяли это еще не народившееся, но жданное слово десятки возбужденных голосов. Смертоносное, но пустое и безопасное сейчас для толпы — это слово не столько волновало ее, сколько приводило в холодный азарт, возбуждало в ней любопытство уже не к тому, когда будет сказано это слово и оно ли будет сказано, а как примут его эти два человека у перегородки оркестра.
Но оба они не знали этого, не думали об этом. Они знали, что их ожидает смерть, но, обреченные, они могли еще не верить в ее приход сейчас, в этот день. Крепкое, здоровое тело их ни в чем не чувствовало умирания, и потому непреоборимая — обычная — человеческая смерть казалась далекой, была за пределами их сознания. Тем не менее они ждали ее — но другую уже: предотвратимую, не только не неизбежную, но нарочитую, по воле чужих людей — умышленную и искусственную.
Так, по своей собственной воле, по своему умыслу, они привели к смерти жертву своих страстей — городского купца, и знали оба, Базулин и Иоська, что, сдержи они себя, жил бы и по сей час и наслаждался жизнью ограбленный и убитый: его смерть была тоже искусственной и предотвратимой. Сдержат ли себя те пятеро, что ушли за кулисы с бумагой и пером?…
…Заскрипела половица на сцене, послышались чьи-то шаги, — и весь зал мгновенно насторожился, а со всеми вместе и оба подсудимых.
Однако все ошиблись.
На сцену быстро вышел один из судей и объявил:
— Граждане! Меня вызывают, значит, срочно, в штаб… так что я ухожу, а заместо меня прошу судьей в трибунал по письменной части товарища комполка, ибо он туточки!…
Назвал он фамилию товарища комполка, и пошел тот в судьи, за кулисы.
Кто-то в толпе, ревниво вспоминавший былые законы о судоустройстве, возмущенно шепнул своему соседу о допущенном правонарушении. Базулин и Иоська лихорадочными колядами провожали нового судью — командира полка. Он прошел мимо скамьи подсудимых, и они заметили неторопливую, военной выправки походку, его чуть усмехающийся спокойный серый глаз и шелковистую острую бородку, аккуратно подстриженную и холеную — по старой командирской привычке, не утерянной ее обладателем.
…Присудили Иоську Каца и Степана Базулина — к расстрелу.
Вздрогнул Базулин, закрыл глаза, а Иоськины глаза сразу косыми стали от страха и выпучились, словно вздувшись, а тело потеряло способность передвигаться.
— Эх!… — со скрежетом крякнул Базулин, словно неудержимо хотелось ему сейчас что-то крикнуть. Но сказал вдруг ктo-тo со сцены:
— … И решили мы отослать приговор на подтверждение, как есть такая пролетарская инструкция, во Всеукраинский ревком, так как, товарищи, дело это по советской формальности нас, собственно, и не касается, ибо мы есть в этом городе только кавалерийская часть, а трибунал имеем — для дезертиров и белогвардейцев… Потом, товарищи… Стой, не расходись! Начальник актерской труппы просит одновременно сообщить товарищам красноармейцам, что в восемь часов тут же будет представление… так что сразу очищайте помещение.
Толпа громко и возбужденно хлопала, но кто знает чему?
Иоська и Базулин растерянно улыбались друг другу, толпе, караульным красноармейцам. Один из судей ловко спрыгнул с эстрады в зал и подошел к подсудимым.
Так же, как и они, смущенно он посмотрел на обоих и добродушно сказал:
— Нет, поймить, братцы, сами: ежели не шутя, — так что есть вам сейчас за приговор? Скажить, пожалуйста. По совести ежели и… безо всякой обиды?…
Было у кавалериста круглое, как яблоко, румяное безволосое лицо с тихими степными глазами и в лице была — порча: в одной — впалой от шрама щеке вырезан был ломоть молодого мяса.
Запомнил Степан Базулин это лицо, — пришлось еще раз в жизни его увидеть. Иоська вновь заметил спускавшегося со сцены командира полка, и с благодарностью подумал в тот момент Иоська, что, вероятно, он, этот человек с аккуратной, шелковистой бородкой, вспомнил там, за кулисами, о какой-то неожиданно спасшей «инструкции»…
К днепровским порогам, к югу ушли кавалеристы, а Иоська с Базулиным считать дни стали в смирихинской тюрьме.
Сначала сидели в «одиночке», потом в тюрьме стало тесно от вновь прибывшего всякого люду, — их перевели в «кают-компанию», как называл общую камеру сидевший за казнокрадство матрос Заруда.
В камере было двадцать семь человек, и, не считая Иоськи и Базулина, пятеро, как и они, ждали расстрела.
У Заруды сиплый голос, черный, как агат, и придавленный широкой ветвью брови злой, запихнутый вглубь, узкий глаз, — и шутит Заруда зло, с издевкой:
— Семеро ваших нездешних душенек, как днёв в неделю, Семь днёв в неделю, и на каждый денек — дежурненького к стенке. Необрезанных — в будни стрелять, а нехристя Иоську под православное воскресенье…
Хотя и привык Иоська к этим шуткам матроса, но всегда, когда слышал их, долго не мог отделаться от изнурительного чувства страха перед каждой предстоящей ночью, таинственной и зловещей, вырывавшей время от времени чью-либо человеческую жизнь.
В тюрьме, в камере, каждый час дневного света казался «смертникам» недолгим обнадеживающим гостем, — и с утра спокойней становилось Иоське Кацу (и так — на весь день), а ночью — сбегалось все тело в настороженный топорщащийся комок, живший острием ослепшей горячей мысли.
Тихо, молча, лежал Иоська на нарах в томительном ожидании утра — верного союзника жизни всех семерых смертников. И ночью не было большего врага для каждого из них, чем остальные шестеро, потому что ночь, словно таинство совершающий жрец смерти, должна была в каждый приход свой выбрать одного кого-то из семерых: в тишине и теми неслышно кричала в людях и незримо горела факелами в их сердце друг к другу ненависть. Но чуть бледнел ночной покров, — она мгновенно исчезала в успокоенном человеческом сердце, и глаза всех смотрели виновато и сочувственно-робко.
И когда приходило утро, сипло говорил Заруда, смерти не ждавший:
— Прошла ночь — словной скупой по базару: безо всякого «расходу»!
Из всех обитателей камеры первым расстреляли — его. Не ждал того матрос: днем водили на допрос в смирихинскую «чека», а ночью пришли неожиданно и вызвали по фамилии:
— Заруда! Собирайсь…
Фонари осветили камеру, — и увидели разбуженные арестанты: перекосилось все Зарудино лицо, узкий глаз выполз наружу и застыл черным стеклом, а крупный заросший рот жалобно отвис, как продранная биллиардная луза.
Всегда дерзкий и грубый в отношениях с товарищами по камере, тугой по нраву и всегда самоуверенный — он, после секундного оцепенения, громко, по-ребячьи заплакал теперь и растерянно тыкался по камере, обнимал дрожавших, как и он, арестантов и все время бессвязно и монотонно повторял:
— Да что же это, братцы… товарищи, а? Кто ж еще за революцию… а? Сам буржуев стрелял… рази можно теперь?…
А когда уходил из камеры, проявил какую-то неожиданную в такую минуту расторопность и житейскую деловитость: забрал с койки бушлат, все белье свое и чужую бутылку с водой.
Было это дождливой осенней ночью — страх был у Иоськи глубже дна речного, но уже утром Иоська шутливо вспоминал Заруду:
— Отец, — спрашивал он своего молчаливого товарища. Скажи мне, по какой причине матросу бутылка сдалась: чи у него, может, жажда была опосля тараньки, что на ужин давали?…