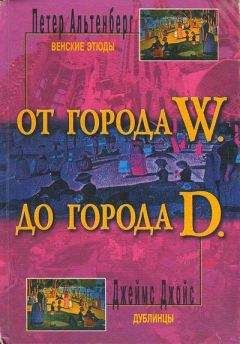«До тридцати лет, говорит Петер Альтенберг, я не занимался ничем определенным Мой мудрый, благородный отец предоставил мне полную свободу и дал время стать самим собой. Он не торопил меня и так же мало был огорчен моим тридцатилетним бездельем, как мало польщен тем, что я стал писателем Моя душа могла расти, любовно отдаваясь тем дивным сокровищам, которые жизнь ежедневно, ежечасно выбрасывает, как жемчуг, на пустынный берег. Я бы хотел вечно смотреть и молчать. Глаза — наше величайшее богатство, хотя есть люди, которые смотрят на жизнь, как жабы на водяную лилию»…
Глубже и любовнее всего проникает его взор в женскую душу…
«Нет у меня другой миссии, говорит он, как показать женскую душу не с точки зрения мужских желаний и потребностей, а такой, какой бы она сама хотела быть».
Будничная жизнь мешает ее расцвету, и она вянет усталая, смирившаяся, не став еще цветком Ей надо сохранять все силы для цветения. В нем жизнь ее, а не в тех плодах, которые грубые люди требуют от нее…
Женщина — песня Альтенберга.
Он подсматривает ее в те идеальные минуты, когда она в шелковом серебристом платье грезит под звуки Вагнера, ищет, находит и снова теряет себя в его гармонии; он видит ее, когда она слабая и погасшая возвращается к будням, когда она, как королева, сознает свою силу, когда она тоскует о своем бессилии. Он бережет, лелеет женские души, дает на миг крылья тем, кто давно разучился летать… Иногда он только молча, с нежностью, прикасается к ним и уходит… Он всегда уходит.
«Как солнце функционирует мое сердце — этот странный, непригодный для жизни орган, — говорит он, — щедро рассыпает оно тепло своих лучей и быстро оставляет одно для другого»…
Правда, что он не индивидуализирует женщин. Везде перед нами как бы одна и та же мировая женская душа в ее бесконечных колебаниях. Женская душа и он. Других героев у него нет. Повсюду — созерцающий «молодой поэт», «мечтатель», женственно нужный, пассивный, он сам…
Альтенберг — импрессионист.
Несколькими оригинальными штрихами набрасывает он свои впечатления, намечая лишь контуры, боясь лишней чертой испортить рисунок. Он влюблен в отдельные предметы. К чему еще события? к чему действия? Он любит японский стиль за его краткость. Маленькую веточку цветущей, бледно-розовой яблони изображают они перед нами — и в этом уже вся весна!.. И как у японцев яблони никогда не дают плодов, так и в эскизах Альтенберга они остаются в их пышном расцвете… Он изображает бесплодные моменты душевного напряжения, которое не переходит в живое действие.
С этой осени в Вене открылся новый художественный журнал «die Kunst», во главе которого стал Альтенберг, стремящийся проводить и в жизнь свои принципы — учить людей проживать художественно каждый миг.
«Природа — величайшая художница, — говорит он. — Хороший Кодак в нежной заботливой руке — и мы легко овладеваем ее сокровищами. Надо только уметь найти точку, с которой на нее смотреть, надо уметь ласково приблизиться к ней…
В этом маленьком художественном органе он помещает фотографии, снятые с прекрасных женских рук, рассказывает о том, как мечтает ребенок, виденный им в городском саду, рисует яркие фигуры людей».
Это те же мотивы, которыми так богаты и оригинальны два тома его эскизов «Wie ich es sehe»[1] и «Was der Tag mir zuträgt»,[2] откуда заимствованы настоящие очерки.
А. К.
— … «Любовь наша свинцом лежит на пути к грядущему царству…»
П. Альтенберг
Madame была сообщницей своих пасынков. Так, например, она говорила: «Edmond, dis lui que…» или «Paul, mais tu ne l’écoûteras pas, j’espère…»[3]
«Наша прелестная maman», думали сыновья: «старикам не понять молодости!..»
Раз отец спросил себе сюртук сына. «Il faut que je fouille ses poches,[4] — подумала madame, — там может попасться что-нибудь компрометирующее. — Потом я все отдам Эдмунду».
Она всегда называла своего мужа: «mon vieux» или даже «mon pauvre vieux».[5]
— Как вы проводите вечера? — спрашивали ее знакомые и думали при этом: «тоска, должно быть»…
— О, чудесно! Я играю с ним в карты и плутую — je triche. Эдмунд помогает мне. Или мы мирно курим, сидя рядом и по-турецки скрестив ноги. Иногда мы пьем малагу, сидим одурманенные, нагоняем друг на друга сон, дремлем. Полина играет нам что-нибудь на скрипке. Впрочем, — кому какое дело до нашей жизни?..
Иногда она тихо думала: «Никто больше не видит, что у меня красивые тонкие руки и золотистые волосы. Правда, иногда мне это говорят при моих падчерицах, чтоб их поддразнить. Но ведь и у них нежные руки и вся молодость впереди… Но что они из этого делают? Они развлекаются… А разве они украшают собой жизнь? Их души не поднимаются над землей Да и есть ли у них души?»
О ней говорили, что она была бы благородной темой для Мопассана, Бурже — для этих философов души.
Ни для кого она больше не будет событием… Может быть, это «напрасная красота?» Да, должно быть. Об этом шепчут ее золотистые волосы, трепеща у нежных висков, и тонкие белые пальцы, которых никто больше не замечает. В ней была какая-то льющаяся через край свобода внутренняя, божественная свобода, похожая на утренний ветер или на зарю. Что-то дерзко восставало в ней против тяжелой власти жизни. Но потом это угасло, затихло, замерло. Иногда она думала, глядя на свою маленькую бледную дочку Полину: «Боюсь, что мы ей дали слишком мало огня!..»
— Откуда берутся дети? — спросила ее раз Полина, эта замкнутая, бледная, задумчивая девочка.
— Отец и мать целуются, целуются — и от этого родятся дети, — ответила мать, задумчиво устремив глаза вдаль.
Так в девять лет Полина узнала нежную тайну любви и жизни!
— Вот как надо воспитывать детей, говорила madame. — Что бы ни говорили другие… Я люблю свободу.
Падчерицы с душами, не подымавшимися над землей, положительно разоряли отца на гувернанток, на путешествия, на желтые ботинки. Они думали: «Кого нам щадить? Maman какая-то ненормальная, Бог знает как она воспитана, — да и не мудрено — какого она происхождения? Лучше об этом не говорить. Красивые волосы у нее — и больше ничего! Полина Бог знает как ведет себя… Ее бы следовало запрятать в институт»…
Полина думала: «На маму нельзя положиться. Я должна сама все понять. И все-таки я ее очень люблю, хотя не хотела бы быть похожей на нее».
У отца были свои заботы. Он чувствовал приближение старости и видел молодую жизнь, жужжащую вокруг него. Бурной весенней грозой проносилось это иногда над ним У каждого были свои замыслы, каждый теснил другого…
— Эта легкомысленная молодежь разрывает меня на части, у нее впереди вся жизнь и она хочет наслаждаться ею. Хоть бы Полина достигла чего-нибудь в музыке, это было бы утешением моей старости.
Потом он пил вино, опускал тяжелеющую голову и говорил: — Каждому следовало бы под старость записать историю своей жизни, создать пером вторую искусственную жизнь; это было бы чудесным произведением и снова дало бы ощущение молодости. Вот, например, война 54 года: я как сейчас вижу осаду Одессы и моего дядю, о котором говорили, когда шли к нему: «мы идем к нему, à la cour». Дядя садился за рояль и играл «Патриотический марш». И все должны были плакать. Золотые были дни… Аладина, ты не слушаешь меня? Послушай…
— J’é coûte,[6] — сказала madame и смотрела в угол комнаты, где не было ничего интересного.
— Умеете вы стенографировать? — спросил ее муж бледного узкогрудого молодого человека, который был почтителен с madame и вообще со всей семьей.
— Нет, к сожалению.
— Научитесь, я вам буду диктовать историю моей жизни. Мы начнем с 54 года — это будет история, «рассмотренная через призму мысли хлеботорговца». Не дурно?
Мысленно он уж прохаживался медленными шагами по комнате, как Александр Дюма, Вальтер Скотт…
Молодой человек думал: — А ведь, правда, быть художником значит быть конченым человеком, которому ничто уж не мешает оглядываться на прошлое, к которому ему уж не вернуться больше. Быть может, только старость и вино прокладывают путь к этой второй жизни. A madame еще вся в первой жизни, она еще не вышла из нее. А Полина? Какая она нежная, бледная… Как маленький больной цветочек.
В конце концов все пришли к одному заключению:
— Monsieur стар. Он существует только для того, чтоб давать деньги. Он ствол, корни наши — а мы цветем, и он должен питать нас. Что делать — таков закон природы.
Он сам признал неумолимость этого закона «Долго ли им еще разорять меня? — думал он: — я уж не тот, что бывало!»
— Дай нам двести крон, папа! — говорили дочери.