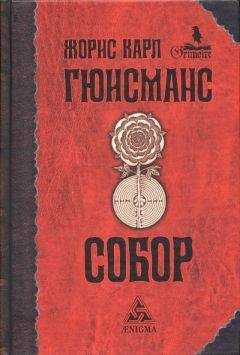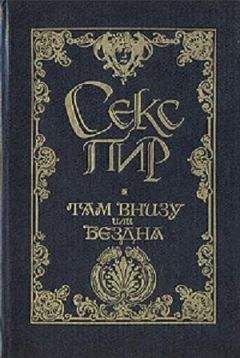В таких романах чувствуется затхлость доморощенных сочинений на философские темы, в огромных количествах изготовляемых в колледжах, тогда как бывает довольно одной реплики персонажа, как, например, той, которую вкладывает Бальзак в уста старого Гюло в «Кузине Бетте»: «Могу я увести малышку?» — чтобы по-новому осветить закоулки души. И это перевешивает все труды, поданные на конкурс! И, конечно же, трудно ждать от подобных авторов попытки прорваться в иную реальность. Выдающийся психолог, считал Дюрталь, не их любимый Стендаль, а тот удивительный Гелло с его поразительной обреченностью на неуспех.
Он был готов признать, что де Герми прав. Литература пришла в полный упадок. Единственное, в чем она нуждалась, — так это в интересе к сверхъестественному, который, не будучи подчинен высшей идее, буксует на одном месте, как, например, спиритизм или оккультизм.
Так, в конце концов он пришел к тому идеалу, который можно было штурмовать. Мысль его, лавируя, перескакивая с одного на другое, вдруг натолкнулась на иной род искусства, на живопись. Именно в ней его идеал уже был воплощен — в наивной живописи, в первобытном искусстве.
В Италии, Германии и особенно во Фландрии кричит о себе необъятная глубина невинной души, в точных, терпеливо выведенных рисунках живут с удивительной наблюдательностью схваченные фрагменты реальности, подчиненные уверенной кисти, в этих людях, в чем-то похожих, в их лицах, часто уродливых, всегда запоминающихся, можно прочесть следы неземной радости, глубокой боли, гармонии разума, душевных смут. В каком-то смысле речь идет о превращении материи, о ее растяжении или сжатии, о бегстве за пределы человеческих чувств, в далекую бесконечность.
Этот род натурализма Дюрталь открыл для себя еще год назад. Тогда он еще не был до такой степени измучен тем постыдным зрелищем, которым стал конец века. Это произошло в Германии перед распятием работы Матиса Грюневальда.
Он вздрогнул в своем кресле и зажмурился, словно от боли. С удивительной отчетливостью изображение возникло перед его взором. Возглас восхищения, вырвавшийся у него тогда, как только он шагнул в небольшой зал музея в Касселе, эхом пронесся в его сознании. Величественная фигура Христа осенила его комнату. Поперечной перекладиной креста служила почти не обработанная ветка дерева, которая прогибалась, подобно дуге лука, под тяжестью тела.
Казалось, ветка, далекая от земных обид и преступлений, вот-вот распрямится, побежденная состраданием, и сбросит измученное тело, удерживаемое грубыми гвоздями, которыми пробиты ноги у самой земли.
Вывернутые руки Христа словно опутаны на всем их протяжении широкими лентами мускулов. Подмышечные впадины пересекают трещины, огромные ладони раскрыты, пальцы соединены в робком жесте, то ли благословляющем, то ли упрекающем, грудная клетка, залитая потом, вздымается, торс с полукруглыми следами времени, вздувшееся тело со следами селитры, отливающее синевой, проеденное насекомыми, которое поддерживают острые прутья, напоминающие булавки, протыкающие его, умножающие язвы.
Проступает сукровица, зияющая рана в боку источает густую кровь, которая стекает на бедро, напоминая сок переспелых фруктов, с розовыми подтеками, белесыми краями, влага, похожая на сероватое вино Мозеля, проступает на груди, омывает живот, стянутый волной материи, ноги сведены, коленные чашечки вдвинуты друг в друга, кривая линия голеней, сошедшиеся в одной точке ступни, зеленеющие в потоках крови. Его ужаснул вид этих скрюченных, пропитанных кровью ног, покрытого нарывами тела, пронзенного гвоздями. Сведенные пальцы так не соответствуют мольбе рук, они проклинают, голубоватые ногти царапают золотистую землю, похожую на утопающую в багрянце Тюрингию.
Над этим гниющим телом царит лицо. Голова увенчана терновым венцом, повисла в изнеможении, глаза в трудом смотрят на мир, в них светятся боль и тоска. Лицо неровно, лоб провален, щеки запали, в искаженных чертах прорывается плач, в то время как приоткрытые губы смеются, заставляя дрожать сведенную страшной судорогой челюсть.
Жуткая казнь, устрашающая агония оборвала ликование палачей, бежавших в панике.
На фоне синего ночного неба крест словно осел, почти слился с землей. С двух сторон от Христа застыли фигуры. Дева Мария в бледно-розовом капюшоне, ниспадающем на темно-голубые складки платья, неподвижная и бледная, с глазами, наполненными невыплаканными слезами, она смотрит прямо перед собой, ее ногти впиваются в ладони. Святой Иоанн, вечный скиталец с грубым, обветренным лицом, высокого роста, с мелкими завитками бороды, в просторных одеждах, словно обернутый в кору деревьев, в ярко-красном хитоне, желтом плаще, подкладка которого, виднеющаяся у рукава, имеет зеленоватый оттенок несозревших лимонов. Изнемогая от слез, он все-таки более суров, чем Мария, он соединил руки в порыве горя и, обратившись к Христу, созерцает его покрасневшими незрячими глазами, он беззвучно кричит, его горло перехвачено мукой.
Да! Это распятие, перепачканное кровью, омытое слезами, так далеко от привычного изображения Голгофы, признаваемого Церковью после Ренессанса. Христос, будто впавший в столбняк, ничем не напоминает Адониса из Галилеи, этакого здоровяка, красивого молодого мужчину с рыжими прядями волос, аккуратной бородкой, с бесцветными вытянутыми чертами лица, которому уже четыреста лет поклоняются верующие. Это Христос святого Юстина, святого Кирилла, Тертуллиана, Христос эпохи становления Церкви, обыкновенный, уродливый, так как он взял на себя все грехи и облек их из смирения в самые гнусные одеяния.
Это Христос не богатых, а бедных, тот, кто хотел максимально приблизиться к несчастным, вину которых он искупил, к обездоленным и попрошайкам, к тем, над чьей нуждой и уродством издеваются трусливые. И это был вместе с тем Христос-человек, Христос грустный и слабый, оставленный Отцом, снизошедшим до него лишь тогда, когда ничто уже не могло причинить ему страдания, с которым была рядом лишь мать, и именно ее он, должно быть, призывал совсем по-детски, как это бывает обычно с теми, кого подвергают мучениям, он обращался к матери, бессильной ему помочь.
Наверное, в своем смирении он согласился с тем, что страдания не столь уж непереносимы, подчиняясь неземным приказам, он согласился также обречь свое божественное тело на пощечины, удары, оскорбления, плевки вплоть до последней бездонной боли. Он мог бы метаться, выть, кричать по-звериному, изрыгать, словно разбойник, проклятия, грубости, пройти весь путь до конца, испить чашу бесчестья, унизиться, стать гнилью, прахом!
Несомненно, натурализм еще ни разу не отважился на подобный сюжет. Ни один художник не смешивал так дерзко божественное и телесное, не погружал так отважно в водоемы страданий и не омывал их в сосудах, наполненных кровью. Это производит величественное и одновременно страшное впечатление. Грюневальд был жестоким реалистом. Но стоит внимательно посмотреть на Искупителя, и все меняется. От его покрытого язвами лица исходят лучи, измученное тело осенено нездешним сиянием. Эта гниющая плоть божественна, над ней нет ореола, нет нимба, только колючий венец, в каплях крови, и все же Христос предстает как небожитель, между Девой, чье отчаяние тонет в слезах, и святым Иоанном, чьи обожженные глаза не может излечить влага.
Такие обычные на первый взгляд лица расплываются, меняются под внутренним натиском. Нет ни разбойника, ни нищенки, ни грубоватого путника, а только неземные существа, льнущие к Богу.
Грюневальд был отчаянным идеалистом. Ни один художник не сумел столь трепетно и вместе с тем решительно вознести душу к затерянным небесным пространствам. Он объял две крайности, он извлек из омерзительных отбросов благословенную возвышенную любовь, острую скорбь. В этом полотне скрыт шедевр, выводящий искусство из тупика, в нем так явственно предстают порывы плоти и бесконечная тоска души.
Нет, ни один другой язык искусства не создал ничего похожего. Нечто близкое можно найти на страницах Анны Эммерих, посвященных Страстям, но и они несут отсвет чисто реалистического идеала правдивости. Или Рюисбрек с его двойными языками огней, белым и черным, в каких-то деталях напоминает божественное падение, переданное Грюневальдом, но все-таки и это не то. Грюневальд уникален в своей приземленности и в своем парении.
«Что же получается, — подумал Дюрталь, очнувшись, — если рассуждать логично, то я пришел к средневековому католицизму, к мистическому натурализму, только этого недоставало!»
Он вновь оказался в тупике, в одно мгновение потеряв ощупью найденный выход. Напрасно он прислушивался к себе, он утратил веру. Бог не подавал ему никакого знака, а в самом себе он не ощущал импульса, который позволил бы ему забыться, окунуться в суровые непреложные догмы.