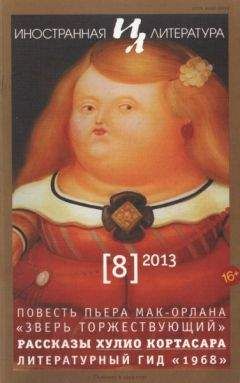— А другой-то дядя — Андрей Яковлевич Денисов?
— Этого я знаю только понаслышке.
— И я его никогда не видывал, а слыхать-то слыхал. О нем идет много всяких речей: никоновцы зовут его еретиком, а те из наших, которые придерживаются старины, величают столпом православия. Да где он теперь?
— Бог весть!.. Покойная матушка сказала мне, что он сначала спасался в Соловках, после жил за Онегою, а там отправился на житье в Стародуб; а в самом-то деле, чай, никто не знает, где он теперь.
— Да, это правда. Мало ли что про него болтают: говорят, что он часто и в Москве бывает… да еще то ли!.. Рассказывают, будто бы его в одно время видели в разных местах. Вот примером сказать: ты бы сегодня под вечер повстречался с ним в Костроме, а мне бы он попался теперь на Красной площади. Да это все, чай, бабьи сплетни. Скажи-ка мне лучше, Дмитрий Афанасьевич, ты вчера, что ль, приехал из Костромы?
— Нет, сегодня поутру.
— Ну, брат Левшин! — продолжал пожилой стре-леЧ>—жаль, что тебя здесь не было — поработали мы!
— Да, — прошептал молодой человек, — поработали, Да только кому? Ведь можно поработать и Господу, и сатане!
Сатане?.. Что ты, что ты, — перекрестись! Пожалуй, у меня рука подымется: я не мятежник и не убийца.
Да что ж ты, Левшин, в самом деле! — вскричал пожилой стрелец. — Да разве мы бунтовщики какие? едь мы послужили царю нашему, Иоанну Алексеевичу и нашей матушке, царевне Софье Алексеевне.
А Петра-то Алексеевича ты забыл?.. ' Ну, что ж? Ведь и он также царствует.
— Поработали! — продолжал вполголоса молодой человек. — Хороша работа!.. Как-то вам будет отвечать на том свете, коли на этом еще не ответите!.. Страшно подумать… сколько ближних бояр, знаменитых сановников!.
— Экий ты, братец, какой! Да слышь ты, они все были изменники!
— Изменники? Неправда!.. Да если б и так: изменников судит царь и дума боярская, а мы что за судьи?
— Что за судьи?.. Видишь ли ты этот столб?
— Вижу.
— А знаешь ли, что он строится с дозволения надпей матушки-царевны Софьи Алексеевны?
— Знаю.
— А ведомо ли тебе, что его ставят здесь ради того, чтобы на веки веков знали о нашей верной службе и об измене бояр, за которых ты заступаешься?
— Все знаю — и дай Бог, чтоб этот столб скорее развалился.
— Ого!.. Так ты этак-то поговариваешь, Дмитрий Афанасьевич?.. Да чему и дивиться!.. Ведь ты не наш брат: ты стрелец только по имени. Отец твой Афанасий Ильич Левшин…
— Что мой отец? Он служил стрелецким головою.
— Знаем, знаем! А все-таки он был родовой человек. Твоя покойная матушка родом Денисова, племянница князю Мышецкому, — ты сам теперь богатый помещик; так пригоже ли тебе, такому боярину, служить в стрелецком войске! Тебе бы давно ударить челом, чтоб тебя перевели в жильцы. Ведь от жильцов-то недалеко и до стряпчих; а там, глядишь, родненька твой, князь Мышец-кий, замолвит за тебя словечко ближнему боярину, князю Голицыну — так ты как раз и в стольники попадешь.
— Нет, Лутохин: где служил и умер на службе мой отец, так и я буду служить.
— А коли так, зачем же ты говоришь такие речи? Иль ты не знаешь пословицы: с волками жить, по-волчьи выть.
— Я не волк, а человек, по-волчьи выть не умею, — сказал отрывисто молодой стрелец, отходя прочь от Лобного места.
Он не успел сделать несколько шагов, как другой стрелецкий сотник, почти одних лет и весьма приятной наружности, кинулся к нему на шею и закричал:
— Здравствуй, брат Левшин!.. Давно ли ты из Костромы?.
— Только что приехал, — отвечал Левшин. — Эх, брат Колобов! — продолжал он, — не чаял я видеть того, что вижу! Да неужели и ты такой же крамольник, как этот Федька Лутохин, с которым я сейчас говорил?
— Нет, Дмитрий Афанасьевич, не обижай! И я и все мои товарищи неповинны в этом грехе пред Богом и царем. Сухарева полк, в котором я служу, не изменил своей присяге. Сначала помутили и наших ребят, и они было завозились, да пятисотенный Иван Васильевич Бурмистров, — дай Бог ему здоровья! — сказал, что ляжет вместо порога у царских палат; вот они язычок-то и прикусили! А там вышел пятидесятник Борисов, человек, кажись, небольно грамотный, а как начал им толковать, что такое есть присяга, так все, братец, прослезились!
— Ну, слава Богу! — сказал Левшин, — хоть один полк! Все-таки душе полегче.
— Да зато уж, брат, как другие-то полки нас не жалуют — вот так бы и проглотили, да благо нельзя!.. Ведь целый полк не один человек — подавишься! Знаешь ли что, Дмитрий Афанасьевич: тебе бы не худо переписаться в наш полк. Ваш полковник Бухвостов болен, так зауряд правит полком Кузьма Иваныч Чермнов, задушевный друг Самбулову, Цыклеру и Щегловитому; а ведь они-то и были первыми зачинщиками мятежа. Чего доброго, коли на беду эти разбойники проведают, что ты не тянешь на их руку, так они как раз тебя уходят.
— Как! Без суда?
— Какой суд! Скажут, что ты изменник — вот и все! Ведь наш теперешний-то набольший — князь Иван Андреевич Хованский, им с руки: что б они ни сделали, все шито да крыто!..
— Эх, брат, Колобов, не хотелось бы мне оставить полк, в котором помнят еще моего покойного батюшку.
— Раньше помнили, а теперь у них не то на уме. Зи, Левшин, послушайся меня! Хочешь, я теперь же пойду к Ивану Васильевичу Бурмистрову?.. Он это дело разом уладит.
— Ну-ин быть по-твоему, — сказал Левшин. — Ведь по правде-то сказать, и покойный батюшка не стал бы служить с бунтовщиками.
— Тише! Что ты горланишь! — шепнул Колосов. Иль тебе надоело голову на плечах носить? лругом нас ушей-то много — про себя, что хочешь говори, а вслух не моги! Ведь здесь, братец, на площади расправа коротка — ни за что пропадешь!.. Ты теперь куда — домой, что ль?..
— Нет, еще не домой. Зайду в Успенский собор поклониться святым угодникам.
— Ну, ступай, а я завтра у тебя поутру побываю. Левшин, простясь с своим приятелем, отправился
в Кремль. Подойдя к Спасским воротам, он увидел, что множество праздношатающихся людей всякого состояния и в том числе несколько стрельцов столпились вокруг одного нищего. Лицо, руки и босые ноги этого нищего были запачканы грязью, а сверх посконного балахона, от которого оставались одни только лохмотья, надета была через плечо веревка, на которой висел плетенный из лыка кошель. Впрочем, лицо его было не безобразно, и седые распущенные по плечам волосы придавали ему вид состарившегося в трудах монастырского послушника.
— Ну, что вы пристали! — говорил он плаксивым голосом дурака, которого раздразнили. — Наладили одно да одно: «Гриша! где ты был? Гриша! куда ты пропадал?» Так не скажу. На что вам?
— Вот уж целый год никто тебя не видел у Спасских ворот, — сказал один купец. — Мы, Гриша, думали, что ты умер.
— Нет, брат, живехонек!..
— На-ка тебе, Гриша, копеечку, — сказал другой купец.
— На что мне? У меня, брат, и своих копеечек-то было много.
— Куда ж ты их подевал? — сказал первый купец.
— Разошлись по белу свету.
— Эх, Гриша, Гриша! зачем же ты их не берег?..
— Большие колокола не велели.
— Вся толпа засмеялась.
Смейтесь, смейтесь! А послушайте-ка сами, что колокола говорят.
— А что они говорят, Гриша? — спросил один из купцов.
— Да маленькие-то лепечут: «денег дай, денег дай, денег дай!» А большие-то, видно, умнее маленьких, те гудят: «деньги гибель, деньги гибель, деньги гибель!»
Хохот в толпе удвоился.
— Да! Вам смех, а мне и полсмеха не было, — продолжал нищий. — Жаль было с денежками расставаться, а все-таки больших колоколов послушался: начал мои копеечки раздавать — бери, кто хочет! И теперь, — прибавил он с веселой улыбкой, — слава тебе, Господи, нет за душой ни полушечки!
— Гриша, — сказал один из стрельцов, — спой-ка нам Алексея Божья человека.
— Да, спой!.. Как бы не так! Ведь поешь, коли на сердце весело, а мне плакать хочется.
— О чем, Гриша?
— Да есть о чем. Пришел я вчера издалека, пообносился, устал, намаялся. Вот думаю: погоди! отведу же я себе душеньку, в Москве у меня приятелей-то много: тот даст калачик, тот рубашонку, тот зипун… Дай пойду к князю Юрию Алексеевичу Долгорукову. Он, бывало, голубчик, всегда меня и напоит, и накормит. Пошел. Стук, стук! «Что ты?» — «Пришел повидаться с князюшкой». — «Так ступай на погост: его убили стрельцы». — «А сынок-то его?» — «Лежит с ним рядышком». Ну, нечего делать! Я к князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому «Приказал, дескать, долго жить! Убили стрельцы». Я к князьям Ромодановским. «Свезли, дескать, на кладбище — убили стрельцы!» Вот думаю: пойду к Артамону Сергеевичу Матвееву — ведь его стрельцы-то отцом родным называли, так уж, верно, у них и руки на него не подымутся. Пришел. Стукнул в калитку. «Кого надобно?» — «Артамона Сергеевича». — «Помолись за его душу — убили стрельцы!»
— Туда изменникам и дорога! — прервал стрелец. — А ты, Гриша, пустого-то не мели.