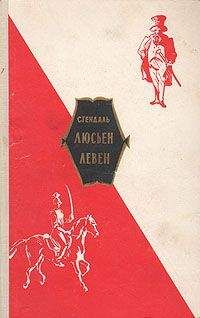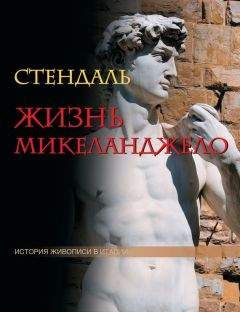— Чтобы тебе понравиться, — отвечал Люсьен, — я должен был бы разыгрывать роль, не правда ли, роль меланхолически настроенного человека? А что получу я от общества взамен за мою скуку? Ведь эта неприятность сопутствовала бы мне постоянно. Разве не пришлось бы мне, бровью не моргнув, выслушивать длинные проповеди маркиза Д. на экономические темы и сетования аббата Р. на бесконечные опасности, сопряженные с разделом имущества между братьями, предписываемым Гражданским кодексом? Во-первых, возможно, эти господа не знают, о чем говорят, а во-вторых, — и это много вероятнее — они здорово поиздевались бы над простофилями, которые поверили бы им.
— Ну что ж, опровергни их, начни спорить: галерка за тебя. Кто заставляет тебя соглашаться? Будь серьезен, напусти на себя солидность.
— Боюсь, как бы меньше чем за неделю эта напускная солидность не стала подлинной. Что мне до мнений света? Я не спрашиваю его ни о чем. Я не дал бы и трех луидоров за честь быть членом твоей академии; разве мы только что не видели, каким способом был избран господин Б.?
— Но свет рано или поздно потребует у тебя отчета в положении, которое он отводит тебе на слово, благодаря миллионам твоего отца. Если твоя независимость вызовет у света чувство досады, он отлично сумеет найти повод поразить тебя в самое сердце. В один прекрасный день ему придет фантазия отшвырнуть тебя в последний ряд. Ты привыкнешь к благожелательному приему; предвижу твое отчаяние, но будет слишком поздно. Тогда ты почувствуешь необходимость быть чем-нибудь, принадлежать к какой-нибудь корпорации, способной при случае поддержать тебя, и ты сделаешься рьяным любителем конских бегов. Я же считаю менее глупым быть академиком.
Проповедь кончилась, так как Эрнест вышел из кабриолета у дверей ренегата, занимавшего двадцать должностей.
«Чудак мой кузен! — решил Люсьен. — Точь-в-точь как госпожа Гранде, которая находит, что для меня крайне важно ходить в церковь: «Это в особенности необходимодля того, кто предназначен к блестящей карьере, но не обладает громким именем». Черт возьми, дурак бы был я, если бы занимался этими скучными вещами! Кому до меня дело в Париже?
Шесть недель спустя после нравоучения Эрнеста Девельруа Люсьен прохаживался у себя по комнате; он внимательнейшим образом рассматривал клетки дорогого турецкого ковра, который г-жа Левен распорядилась перенести из своей комнаты в комнату сына в день, когда он простудился. В связи с этой же простудой Люсьен был облачен в великолепный причудливый халат, синий с золотом, и в очень теплые рейтузы из кашемира малинового цвета.
У Люсьена был счастливый вид, на его лице играла улыбка. Всякий раз, проходя мимо кушетки, он немного скашивал глаза в ее сторону, не останавливаясь, однако; на ней лежал зеленый мундир с малиновой выпушкой, и к мундиру были прикреплены эполеты корнета.
В этом-то и заключалось счастье.
У г-на Левена, знаменитого банкира, было много друзей, так как он давал изысканнейшие, почти безупречные обеды и вместе с тем не был человеком ни требовательным в нравственном отношении, ни скучным, ни честолюбивым, а только взбалмошным и оригинальным. Однако — и это была серьезная ошибка — друзья были выбраны не из числа лиц, способных повысить то значение и уважение, которым он пользовался в свете. Это были прежде всего умные люди, не привыкшие отказывать себе в удовольствиях, люди, которые по утрам, быть может, занимаются серьезно своими делами, но по вечерам смеются над всем на свете, посещают Оперу и, что весьма существенно, не придираются к власти в вопросе об ее происхождении, ибо в связи с этим пришлось бы сердиться, порицать, впадать в уныние. Эти друзья сказали всесильному министру, что Люсьен отнюдь не какой-нибудь Хемпден, фанатик американской свободы, отказывающийся платить налоги, если бюджет не утвержден, а всего-навсего двадцатилетний молодой человек, образ мыслей которого не отличается от образа мыслей окружающих. В результате тридцать шесть часов спустя Люсьен уже был корнетом 27-го уланского полка, носящего на мундире малиновые выпушки и, кроме того, прославленного блестящими воинскими подвигами.
«Должен ли я сожалеть о Девятом полку, где тоже была вакансия? — задавал себе вопрос Люсьен, закуривая сигарету, скрученную им из лакричной бумаги, которую ему прислали из Барселоны. — У Девятого ярко-желтые выпушки… это живее, но менее благородно, менее строго, менее по-воински… Ба! По-воински! Эти полки, находящиеся на содержании у палаты депутатов, никогда не пустят в настоящее дело! Самое существенное для мундира — это быть нарядным на балу, а ярко-желтый цвет живее…
Какая разница! В былое время, когда, поступив в Школу, я впервые надел мундир, меня мало интересовал его цвет; я думал о прекрасных батареях, быстро строящихся в боевом порядке под ураганным огнем прусской артиллерии… Как знать? Быть может, мой Двадцать седьмой уланский бросится в один прекрасный день в атаку на этих изящных гусаров смерти, о которых Наполеон лестно отозвался в Иенском бюллетене… Но чтобы драться с подлинным удовольствием, нужно, чтобы родина была действительно заинтересована в исходе сражения; ибо если речь идет лишь о том, чтобы понравиться этим господам, являющимся привалом в грязи и поощряющим наглость иноземцев [5], тогда, право, незачем стараться». Молодой человек изъясняется еще на языке партии, к которой он раньше принадлежал; это говорит республиканец. (Прим. автора.)
И все удовольствие пренебрегать опасностью, сражаться геройски потускнело в его глазах. Из любви к мундиру он делал попытку помечтать о преимуществах военной службы.
«Получать чины, ордена, деньги… А почему бы, — сразу подумал он, — не пограбить немца или испанца, как N. или как N.?»
Оттопырив губу с видом глубокого презрения, он уронил сигарету на прекрасный ковер, подарок матери; он поспешно поднял ее; это был уже другой человек: отвращения к войне не было и в помине.
«Ба, — сказал он себе, — никогда ни Россия, ни другие деспотии не простят нам Трех дней. Значит, сражаться будет прекрасно…»
Убедившись в том, что ему не страшно унизительное общение с любителями выдач из казны, он снова перевел взор на кушетку, на которой военный портной разложил мундир корнета. Он представлял себе войну по артиллерийским упражнениям в Венсенском лесу…
«Быть может, получу рану!» И он уже видел, как его переносят в хижину, где-нибудь в Швабии или в Италии; прелестная юная девушка, чьей речи он не понимает, ухаживает за ним, сначала из человеколюбия, потом… Когда же двадцатилетнее воображение исчерпало все счастливые картины любви к простодушной и свежей крестьянке, перед ним возник образ молодой женщины, близкой ко двору и сосланной на берег Сезии угрюмым мужем. Сперва она присылает своего лакея с корпией для раненого юноши, а несколько дней спустя появляется сама под руку с сельским священником.
«Но нет, — продолжал Люсьен, нахмурив брови и внезапно вспомнив о шутках, которыми его со вчерашнего дня донимал г-н Левен, — я буду воевать только с сигарами; я стану одним из почетных завсегдатаев военного кафе в унылом гарнизоне плохо мощенного городишки; в качестве вечерних развлечений у меня будет несколько партий на бильярде и несколько бутылок пива да иногда по утрам пустая перепалка с грязными, умирающими с голоду рабочими… В лучшем случае я буду убит, как Пирр, ночным горшком (неприятный сюрприз!), брошенным из окна шестого этажа беззубой старухой. Какая слава! Моя душа окажется в довольно нелепом положении, когда на том свете я буду представлен Наполеону.
«Без сомнения, — скажет он, — вы умирали с голоду, раз взялись за это ремесло?» — «Нет, генерал, я думал, что подражаю вам». — И Люсьен громко расхохотался. — Наши правители чувствуют себя слишком непрочно, чтобы у них хватило смелости затеять настоящую войну; в одно прекрасное утро из рядов может выступить какой-нибудь капрал, вроде Гоша, который обратится к солдатам с призывом: «Друзья мои, идем на Париж и изберем первого консула, который не позволит глумиться над собой Николаю».
Но я хочу, чтобы капрал преуспел, — философски продолжал он, закуривая вновь сигарету. — Когда нация охвачена гневом и любовью к славе, прощай свобода. Газетчик, усомнившийся в правдивости бюллетеня, сообщающего о последнем сражении, будет рассматриваться как предатель, как союзник неприятеля, и будет умерщвлен, как это делается республиканцами в Америке. Еще раз мы будем избавлены от свободы любовью к славе… Порочный круг… И так до бесконечности…»
Очевидно, наш корнет не был совершенно свободен от недуга резонерства, связывающего по рукам и ногам современную молодежь и сообщающего ей старушечий характер.