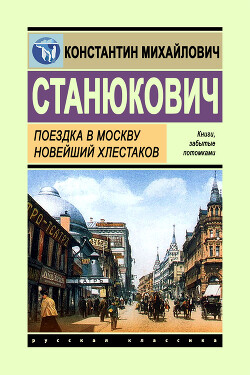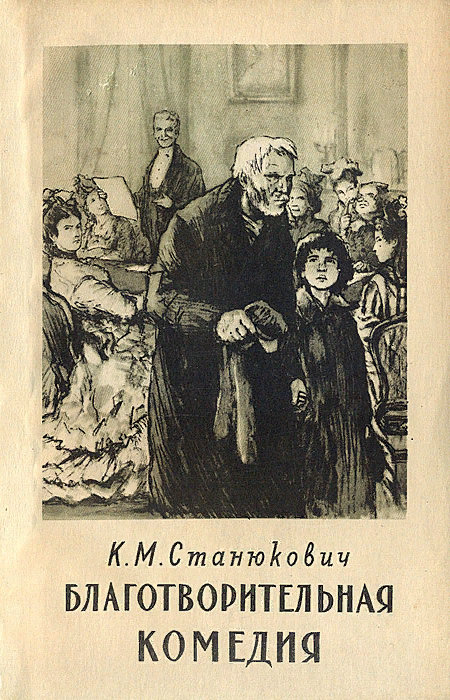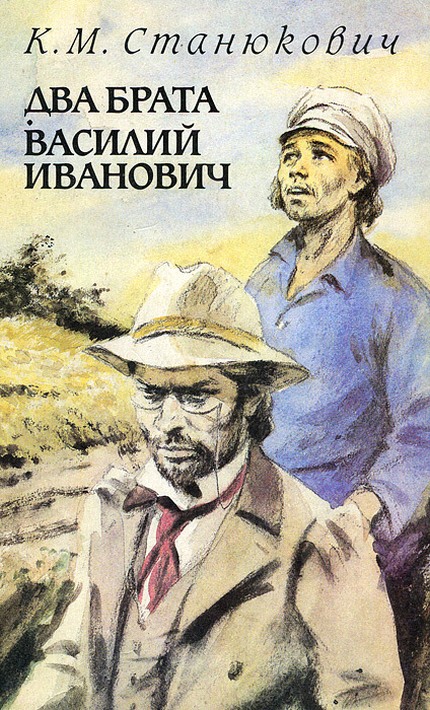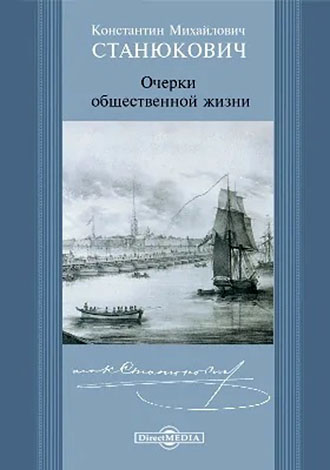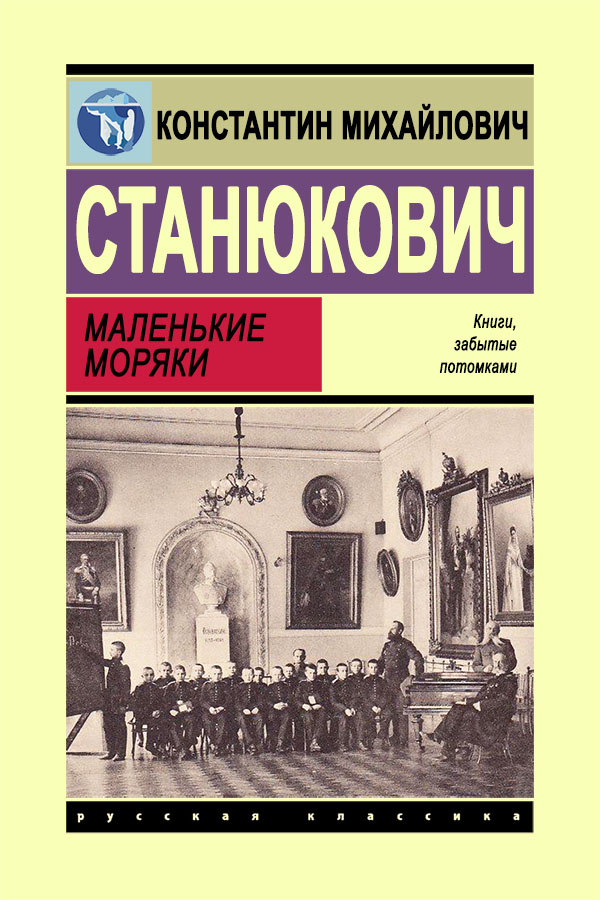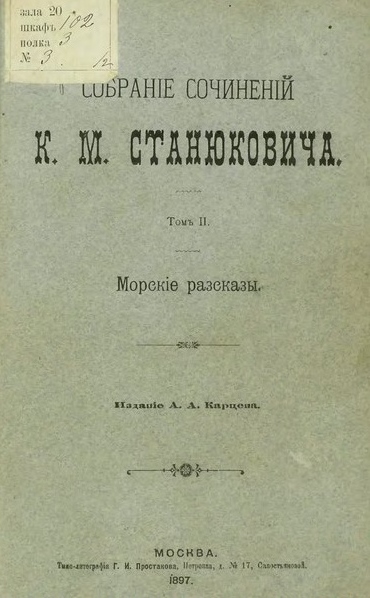— Я вам, господин, занял, хорошее место у окна, — напоминает артельщик.
— Спасибо, спасибо!..
Я вынимаю двугривенный и кладу в руку. Он желает мне хорошего пути.
— Вы изволите ехать до Москвы? — внезапно поворачиваясь, спрашивает меня толстая старушка. На её озабоченном от напрасных усилий, рыхлом, красно-багровом лице, от которого веет добродушием Пульхерии Ивановны, светится улыбка.
— До Москвы.
— А мне так далеко… в Самару. Очень тесно! — продолжает барыня, очевидно, имея намерение меня разжалобить.
Но только что я хотел предложить руку помощи, как она — о лукавая! — поставила изрядный чемодан в промежуток между скамьями, прямо на мои ноги, и с необыкновенным добродушием в голосе и в лице проговорила:
— Вас он не побеспокоит?.. Он маленький!
— Напротив, очень даже побеспокоит! — отвечал я.
Она, очевидно, не ожидала такого грубого ответа с моей стороны и даже в первый момент растерялась.
— Но куда же я его поставлю?..
Кое-как мы поладили друг с другом и с чемоданом. Его пристроили в другое место. Старушка, наконец, успокоилась и заговорила с молодой женщиной, стоявшей на платформе у вагона.
— Так смотри, Коля, побывай у графа Павла Николаича и скажи графу Павлу Николаичу! — раздается сзади чей то голос, особенно громко отчеканивавший имя, отчество и фамилию графа.
Все оборачиваются в сторону голоса, произнесшего известную фамилию петербургского сановника, и смотрят на плотного, хорошо одетого, пожилого господина, беседующего с маленьким вертлявым чистеньким лицеистом в треуголке. Господин, приглашавший Колю побывать у графа Павла Николаича, очевидно, замечает эффект, произведенный им… Он бросает небрежный взгляд вокруг и уже тише разговаривает с Колей…
Сухощавый «землевладелец» с почтением взглядывает на господина, а старушка даже привстала с подушки и с каким то благоговением открыла рот и на секунду замерла. Только сосед, рядом со мной сидевший, и до сего времени рассматривавший свою, очевидно, новую летнюю пару, то снимавший, то надевавший шведские перчатки, обернулся на секунду и снова повернулся с видом равнодушия, как будто желая показать, что никакой фамилией его не удивишь. Он взглянул на старушку, окинув её костюм неодобрительным взглядом, достал из кармана «Новое Время» и стал читать, по временам любуясь своей новой летней парой. У этого господина была настоящая «петербургская» физиономия, одна из тех, которые видишь каждый день на улицах. — Вероятно, какой нибудь столоначальник, едущий отдохнуть от государственных трудов.
— Разве познакомиться с ним и его попросить? — вдруг говорит, вздыхая, толстая старушка, обращаясь к молодой женщине.
— Что вы, тетенька!.. Вот выдумали!..
— Надо, Лиза, все средства… А вдруг, Господь Бог, поможет, он напишет графу Николаю Павловичу…
— Ах, тетенька! — скептически замечает молодая женщина.
Раздается тяжелый вздох. На глазах у старушки блестят слезы.
— Три недели ведь прожила… ездила, ездила…
— Вы скоро вернетесь?..
— Скоро, дружок, как же не скоро!.. Ведь одна я у него… Ты что услышишь там… когда дело… телеграфируй., Лиза… Может быть, ты увидишь Васю…
— Постараюсь… но едва ли!.. Вы сами знаете…
— Знаю, знаю! — вздохнула старушка.
— Так побывай, Коля, у графа Павла Николаевича! — в четвертый раз раздается голос.
— Непременно буду, папа…
— И скажи maman, что я жду вас через неделю…
В двери стремительно вваливается купец, в лоснящемся длиннополом сюртуке и высоких сапогах. Он озирается в вагоне, разыскивая место. Из-за его плеча выглядывает голова носильщика с чемоданом…
— Вы, господин, поскорей… Сейчас третий звонок…
— И тут местов нет!..
Он делает новый обзор и видит с боку, на незанятом месте, маленький чемодан около господина в форменной фуражке: господин, с приходом купца, внезапно поворачивается и сосредоточенно смотрит в окно.
— Это место занято?
«Форменная фуражка» не слышит.
— Слободно то место? — обращается купец к соседям…
— Не знаю… Да вы идите в другой вагон… Там свободней! — говорят ему.
— Кондуктор, кондуктор! — отчаянно кричит купец.
«Форменная фуражка» бросает взгляд на купца. Кондуктора нет. Купец осторожно снимает со скамьи чемоданчик.
— Ваш будет? — осведомляется он…
— Мой!
— Так нельзя ли его вот сюда… Тоже и мы деньги заплатили!.. Недалече еду-с… До Бологова! — говорит он, как бы в утешение огорченного соседа и, снимая фуражку, торжественно отирает пот с широкого, скуластого лица и поводит глазами на публику.
— Парит! — произносит он, ни к кому особенно не обращаясь… — Для наливу зерна — благодать!
Никто не подает реплики… Бьет третий звонок… С платформы раздаются пожелания, недосказанные фразы… Старушка протягивает руку и отирает слезу, стараясь приветливой улыбкой проститься с молодой женщиной… Улыбка выходит грустная, грустная…
— До свидания, Лизочка… Если можно… Васю, Васю навести!..
И этот «Вася» звучит таким сердечным, надтреснутым голосом, полным безнадежной тоски. — «Верно мать!» пронеслось у меня в голове, и я вспомнил Некрасова: «То слезы бедных матерей»…
— Постараюсь, тетенька…
— Спаси его Господи!
— Так смотри, Коля, непременно побывай и от моего имени засвидетельствуй…
— Прощайте… прощайте… О, счастливица! — раздается чей то звучный голосок с платформы. И молодая девушка, сверкающая молодостью и светлым платьем, весело махает платком.
— В Пятигорск до востребования, — кричит голос из вагона.
— Поправляйтесь…
— Да насчет товару, чтобы беспременно…
— Из Одессы я прямо в Вену… Телеграфируй!..
Кондуктор свистнул. Раздался в ответ протяжный свист локомотива, и поезд тихо тронулся. Еще раз мелькнули провожавшие поезд лица, сверкнули платки, и поезд вышел из дебаркадера. Некоторые перекрестились. Старушка особенно набожно осенила себя крестом, и губы её, казалось мне, шептали все то же имя — «Вася». Сухощавый «землевладелец» осторожно распространил свои владения, полегоньку отодвигая подушки своей соседки. Мой сосед отложил газету, вынул из кармана шелковую дорожную фуражку, не спеша надел ее на коротко-остриженную, с плешинами голову, положил фетр на верх и с чувством собственного достоинства оглядел нас, как бы приглашая полюбоваться его манерами и невозмутимостью, и снова занялся газетой.
II
Первое время все притихли, размещаясь поудобней, прибирая саки, картонки и пр. по местам. Несмотря на открытые с обеих сторон окна, в вагоне была африканская жара и духота. От крыши вагона пыхало жаром… Раздавались отрывочные восклицания, жаловались на жару, дамы преимущественно охали и ахали, вспоминая о забытой картонке или оставленных впопыхах ключах. Старушка, закрывшая глаза и, быть может, уже дремавшая под мерный стук колес, неожиданно поднялась и торопливо стала рыться в карманах своего широкого шелкового капота… Лицо её подернулось тревогой… Она поднялась и стала что то искать под подушками…
— Ах, Господи… Я, кажется, забыла ключи!.. — вырвалось у нее восклицание.
Однако, ключи нашлись в каком то ридикюле; старушка просветлела и, обращаясь к соседу, заметила:
— Нашлись! — и при этом прибавила: — А вы далеко изволите ехать?
— До Курска…
— До Курска… А я в Самару!..
— От Курска мне еще в сторону, шестьдесят верст! — прибавил сухощавый землевладелец.
— В имение?..
— В имение…
Они разговорились. Старушка, как видно, сангвинического характера, говорила много и охотно, перебегая иногда с поразительной внезапностью от одного предмета к другому. Быть может, она хотела в путевой беседе забыть на время свои невеселые петербургские впечатления или вообще она не отличалась воздержностью языка — кто знает?.. Она жаловалась на хозяйство, через две минуты нашла с соседом общих знакомых, расспрашивала и вспоминала о них. В разговоре все, о ком она ни упоминала, оказывались уже «милыми и прелестными». Такой то генерал — «прелестный»; такая то дама, с которой она вместе была в Смольном, тоже — «прелестная» и исправник NN — «прелестный и говорит по-французски». Мне показалось удивительным, что даже после трех недель, проведенных ею в Петербурге, старушка все-таки сохранила привычку находить всех «прелестными». В ней сильно сказывалась институтка, несмотря на её преклонный возраст. Она то и дело пересыпала свои слова французскими словами и в короткое время почти познакомила нас со своей биографией. Она дочь генерала, покойный муж её тоже был генерал и отличился в венгерскую кампанию… Она, конечно, рассказала «эпизод» отличия; затем, не докончив «эпизода», перешла как то к описанию «прелестного» и «благородного» товарища покойного мужа и его «прелестной» семьи, снова вернулась к началу эпизода и во второй раз объяснила, как муж её явился к Гергию и сказал ему «прелестную» речь. При этом она сильно жестикулировала и оживлялась. Дочь её была фрейлиной, прелестно образована, знает три языка, играет божественно, путешествовала за-границей и теперь замужем за графом Лукоморским… У нее трое внучек… прелестные дети… Отлично говорит по французски… Живет дочь, как царица.