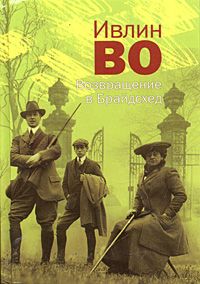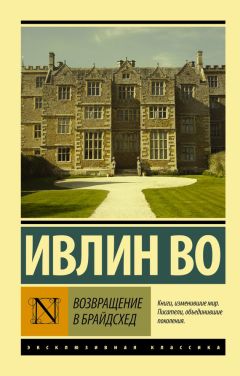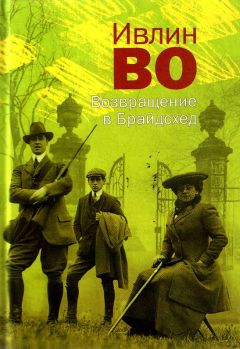В тот вечер за столом собралась небольшая и сумрачная компания. Одна Корделия веселилась от души, радуясь вкусной еде, разрешению позже лечь спать, обществу братьев. Брайдсхед был тремя годами старше нас с Себастьяном, но казался человеком другого поколения. В его наружности были всё те же семейные черты, и его улыбка в тех редких случаях, когда она появлялась, была так же обаятельна, как и у остальных; голос его был их голосом, но речь отличалась такой серьезностью и церемонностью, что, будь это мой кузен Джаспер, производила бы впечатление напыщенной и фальшивой, у него же, очевидно, была естественной и ненарочитой.
— Сожалею, что только теперь могу уделить вам внимание как нашему гостю, — сказал он мне. — За вами здесь хороший уход? Надеюсь, Себастьян заботится о вине. Уилкокс, если дать ему волю, довольно прижимист.
— Он обошелся с нами очень щедро.
— Рад это слышать. Вы любите вино?
— Очень.
— А я, к сожалению, нет. Оно так сближает людей. В колледже Магдалины я неоднократно пытался напиться, но ни разу не испытал от этого удовольствия. А пиво и виски привлекают меня и того менее. Вследствие этого такие дни, как был сегодняшний, для меня мучительны.
— Я люблю вино, — сказала Корделия.
— Согласно последнему отзыву святых сестер, моя сестра Корделия не только наихудшая из теперешних учениц школы, но также наихудшая изо всех учениц на памяти старейшей из монахинь.
— Потому что я не захотела стать enfant de Marie[11]. Преподобная матушка сказала, что меня нельзя будет принять, если я не стану держать свою комнату в порядке, вот я и ответила, что я и не хочу даже и не верю, чтобы пресвятой деве было хоть сколечко интересно, ставлю я гимнастические туфли слева от бальных или наоборот. Преподобная чуть не лопнула от злости.
— Пресвятой деве интересно, послушна ли ты.
— Не увлекайся богословием, Брайди, — сказал Себастьян. — Среди нас есть атеист.
— Агностик, — поправил я.
— В самом деле? У вас в колледже много таких? У нас в Магдалине их было изрядно.
— А у нас не знаю. Я стал тем, что есть, задолго до поступления в Оксфорд.
— Сейчас это всюду, — сказал Брайдсхед.
В тот день разговор всё время возвращался к религии. Мы поговорили немного про выставку. Потом Брайдсхед сказал:
— Я видел на прошлой неделе в Лондоне епископа. Знаете, он хочет закрыть нашу часовню.
— Ой, что ты! — воскликнула Корделия.
— По-моему, мама ему не позволит, — заметил Себастьян.
— Наша часовня слишком отдаленная, — пояснил Брайдсхед. — Под Мелстедом живет десяток семейств, которым сюда не добраться. Он хочет открыть там центр богослужения.
— Но как же мы? — сказал Себастьян. — Неужели нам куда-то ездить зимой по утрам?
— У нас должны быть святые дары здесь, — заявила Корделия. — Я люблю заглядывать в часовню в разное время дня. И мама любит.
— И я люблю, — сказал Брайдсхед. — Но нас очень мало. Другое дело, если бы мы были старый католический род и все в поместье ходили бы к обедне. Рано или поздно ее всё равно придется закрыть, может быть, уже после мамы. Но вопрос в том, не лучше ли, чтобы это произошло теперь. Вот вы художник, Райдер, что вы думаете о ней с точки зрения эстетической?
— Я думаю, что она очень красивая! — со слезами на глазах воскликнула Корделия.
— По-вашему, это произведение искусства?
— Не вполне понимаю, какой смысл вы в это вкладываете, — насторожился я. — Я считаю ее замечательным образцом искусства своего времени. Очень возможно, что через восемь — десять лет ею будут восторгаться.
— Но не может же так быть, чтобы двадцать лет назад она была хороша и через восемьдесят лет будет хороша, а сейчас плоха?
— Она, может быть, и сейчас хороша. Просто сегодня няне она не особенно нравится.
— Но разве, если вы считаете вещь хорошей, это не значит, что она вам нравится?
— Брайди, не будь иезуитом, — вмешался Себастьян, но я успел почувствовать, что наше разногласие не только словесное, что между нами лежит глубокая, непреодолимая пропасть, мы не понимаем друг друга и никогда не сможем понять.
— Но ведь и вы, говоря о вине, допустили такое различие.
— Нет. Мне нравится и представляется хорошей цель, которой вино иногда служит: укрепление взаимных симпатий между людьми. Но в моем случае эта цель не достигается, поэтому вино мне не нравится и я не считаю его хорошим.
— Брайди, пожалуйста, перестань.
— Прошу прощения, — сказал он. — Мне эта тема показалась небезынтересной.
Слава богу, что я учился в Итоне.
После обеда Брайдсхед сказал:
— Боюсь, что мне придется увести Себастьяна на полчаса. Завтра я весь день буду занят и сразу после закрытия выставки должен уехать. А у меня накопилась гора бумаг, которые надо передать отцу на подпись. Себастьян должен будет их захватить и объяснить ему всё на словах. Тебе пора спать, Корделия.
— Мне нужно сначала переварить ужин, — отозвалась она. — Я не привыкла так объедаться на ночь. Побеседую немного с Чарльзом.
— С Чарльзом? — одернул ее Себастьян. — Он для тебя не Чарльз, а мистер Райдер, дитя.
— Идемте же, Чарльз.
Когда мы остались одни, она спросила:
— Вы в самом деле агностик?
— А у вас в семье всегда целыми днями говорят о религии?
— Ну, не целыми днями. Но говорить об этом так естественно. Разве нет?
— Естественно? Для меня это вовсе не естественно.
— Ну, тогда вы, должно быть, и в самом деле агностик. Я буду молиться за вас.
— Вы очень добры.
— Все молитвы я за вас, к сожалению, прочесть не смогу Прочту только десяток. У меня такой длинный список людей, я их поминаю по очереди, и на каждого приходится десяток в неделю.
— Это, безусловно, гораздо больше, чем я заслуживаю.
— О, у меня есть и более безнадежные случаи. Ллойд Джордж, и кайзер, и Олив Банке.
— А это кто?
— Ее исключили из монастыря в прошлом семестре. За что, я точно не знаю. Что-то она такое писала, преподобная матушка у нее нашла. А знаете, если бы вы не были агностиком, я бы попросила у вас пять шиллингов заплатить за черную крестную дочь.
— В вашей религии меня теперь ничем не удивишь.
— О, это один миссионер-священник в прошлом году придумал. Вы посылаете каким-то монахиням в Африку пять шиллингов, и они крестят черненького ребеночка и дают ему ваше имя. У меня уже есть шесть черных Корделий. Мило, правда?
Когда Брайдсхед с Себастьяном освободились, Корделию отправили спать. Брайдсхед вернулся к нашему разговору.
— Вы, конечно, правы, я понимаю, — сказал он. — Вы относитесь к искусству как к средству, а не как к цели. Это строго теологический подход, но для агностика необычный.
— Корделия обещала молиться за меня, — сказал я.
— Она девять дней молилась за свою свинью, — заметил Себастьян.
— Для меня всё это крайне непривычно, — признался я.
— Кажется, мы ведем себя неподобающим образом, — заключил Брайдсхед.
В тот вечер я впервые осознал, как мало я, в сущности, знаком с Себастьяном и почему он всё время старался не допускать меня в свою другую жизнь. Он был словно друг, с которым сошлись на пароходе в открытом море; и вот теперь мы прибыли в его родной порт.
Брайдсхед и Корделия уехали; в парке убрали палатки и флаги; вытоптанная трава снова постепенно зазеленела; месяц, начавшийся в блаженной лени, теперь стремительно приближался к концу. Себастьян уже ходил без палочки и забыл о своем увечье.
— Я считаю, что вы должны поехать со мною в Венецию, — сказал он.
— Денег нет.
— Это я уже обдумал. Там мы будем жить на папин счет. Дорогу мне оплачивают адвокаты — спальный вагон первого класса. На эти деньги мы оба можем доехать третьим.
И мы поехали; сначала медленным дешевым пароходом до Дюнкерка, сидя всю ночь под безоблачным небом на палубе и следя, как серый рассвет занимается над песчаными дюнами; затем, трясясь на деревянных скамьях, в Париж, где поспешили к «Лотти», приняли ванну и побрились, пообедали у «Фойо», где было жарко и наполовину пусто, сонно побродили по магазинам и еще долго должны были сидеть в каком-то кафе, пока не настанет время отправления нашего поезда; потом пыльным теплым вечером шли на Лионский вокзал к отходу почтового на юг; и опять деревянные скамьи, вагон, в котором полно бедняков, едущих в гости к родственникам и снарядившихся в дорогу так, как принято у бедняков в Северной Европе: с бесчисленными узелками и с выражением покорности начальству на лицах, и матросов, возвращающихся из отпуска. Мы спали урывками, под толчки и остановки, среди ночи сделали пересадку, потом снова спали и проснулись в пустом вагоне, а в окнах мелькали сосновые леса и вдали маячили горные вершины. Новые мундиры на границе, кофе и хлеб в станционном буфете, вокруг нас люди, по-южному живые и грациозные, и опять путь по широкой равнине, а в окнах вместо хвойных лесов — виноградники и оливковые рощи, пересадка в Милане, чесночная колбаса, хлеб и бутылка «Орвието», купленные с лотка (мы потратили почти все наши деньги в Париже); солнце в зените и земля, затопленная зноем, вагон, наполненный крестьянами, приливающими и отливающими на каждой станции, и тошнотворный запах чеснока в жарком вагоне. Наконец вечером мы приехали в Венецию.