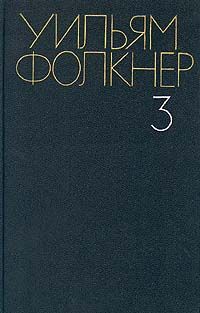— Ну, что это все значит? — сказал Эдмондс.
— Она хочет разводиться, — сказал Лукас. — Хорошо.
— Хорошо? — сказал Эдмондс. — Хорошо?
— Да. Сколько это будет мне стоить?
— Понятно, — сказал Эдмондс. — Если платить должен ты, она развода не получит. Ну, на этот раз дело такое, что тебе никого облапошить не удастся. Ты, старик, не золотоискательную машину сейчас продаешь или покупаешь. И мул ей ни к чему.
— Я согласен разводиться, — сказал Лукас. — Просто хочу знать, сколько это будет мне стоить. Почему вы не разведете нас, как Оскара с этой желтой девкой из Мемфиса, которую он привез прошлым летом? Да не просто развели, а еще сами отвезли ее в город и купили ей билет на поезд до Мемфиса.
— Потому что они не очень крепко были женаты, — сказал Эдмондс. — Она, видишь ли, бритву носила и рано или поздно полоснула бы его. А если бы сплоховала, промахнулась, Оскар оторвал бы ей голову. Он только этого случая и дожидался. Вот почему я развел. А ты не Оскар. Это другое дело. Послушайся меня, Лукас. Ты старше меня; не спорю. Может, у тебя и денег больше, чем у меня, — я лично в этом не сомневаюсь; и разума у тебя, может, больше, — а в этом ты не сомневаешься. Но так нельзя.
— Не мне говорите, — ответил Лукас. — Ей скажите. Это не моя затея. Мне и так неплохо.
— Ну да. Конечно. Пока ты делаешь то, что хочешь — проводишь все время, не занятое сном и едой, на речке и заставляешь Джорджа Уилкинса таскать для тебя эту чертову… эту чертову… — Тут он остановился и начал снова, стараясь говорить не только потише, но и поспокойнее, и сначала это ему даже удавалось: — Сколько я твердил тебе, что никакого клада тут нет. Что ты зря теряешь время. Но это полбеды. По мне, вы с Джорджем Уилкинсом можете бродить там, пока не свалитесь. А тетю Молли…
— Я мужчина, — сказал Лукас. — Я тут хозяин. В моем доме я распоряжаюсь, все равно как вы, или ваш отец, или его отец — в вашем. Довольны вы тем, как я на своей земле работаю и сколько урожая снимаю? Так?
— Доволен? — сказал Эдмондс. — Доволен?
Но Лукас даже не прервал свою речь:
— И пока я это делаю, я буду распоряжаться своими делами — и был бы здесь папаша ваш, он первый бы вам сказал, что так и надо. А потом, мне скоро хлопок собирать, и тогда перестану искать каждую ночь. Буду искать только в субботу ночью и в воскресенье ночью. — До сих пор он обращался как будто к потолку. А теперь посмотрел на Эдмондса. — Но эти две ночи — мои. В эти две ночи мне ничью землю пахать не надо — пускай кто хочет называет ее своей.
— Что ж, — сказал Эдмондс. — Две ночи в неделю. И начнется это с будущей недели — хлопок у тебя кое-где уже поспел. — Он повернулся к старухе. — Ну вот, тетя Молли, — сказал он. — Две ночи в неделю, и одумается, даже Лукас твой скоро одумается…
— Я не прошу, чтобы две ночи в неделю искал, — сказала она. Она не пошевелилась и говорила монотонным речитативом, не глядя ни на того ни на другого. — Я вообще ничего не прошу, пускай себе ищет. Теперь уже поздно. Он с собой не совладает. А я уйти хочу.
Эдмондс опять посмотрел на непроницаемое, невозмутимое лицо под широкой старинной шапкой.
— Хочешь, чтобы она ушла? — сказал он. — Так, что ли?
— Я буду хозяином в моем доме, — сказал Лукас. В его голосе не было упрямства. Было спокойствие: решимость. Взгляд его был так же тверд, как взгляд Эдмондса, но несравненно холоднее.
— Слушай, — сказал Эдмондс. — Ты стареешь. Не так уж много тебе осталось. Минуту назад ты тут сказал про отца. Все так. Но когда настал его час, он отошел с миром. — Потому что ничего не держал… Тьфу, он чуть не произнес это вслух. Дьявол, дьявол, дьявол, подумал он… ничего не держал такого при жене-старухе, из-за чего пришлось бы сказать: Господи, прости мне это. Чуть не сказал вслух; едва удержался. — Близок час, когда и тебе захочется отойти с миром, — а когда он наступит, ты не знаешь.
— И вы тоже.
— Правильно, но мне сорок три года. Тебе — шестьдесят семь.
Они смотрели друг на друга. По-прежнему лицо под меховой шапкой было невозмутимо, непроницаемо. Наконец Лукас пошевелился. Он повернул голову и аккуратно сплюнул в очаг.
— Ладно, — спокойно сказал он. — Я тоже хочу отойти с миром. Я отдам машину. Подарю Джорджу Уилкинсу.
И тут зашевелилась старуха. Когда Эдмондс оглянулся, она пыталась встать с кресла, опираясь на одну руку, а другую вытянув вперед — не для того, чтобы отстранить Лукаса, а к нему, к Эдмондсу.
— Нет! — крикнула она. — Мистер Зак! Как вы не понимаете? Ладно, он опять ходить с ней будет, все равно как со своей, он еще Нат, моей младшенькой, последней моей, это проклятье передаст, — кто тронул то, что Богу обратно отдано, того он погубит! Нет, пускай у себя оставит! Потому и уйти хочу, чтобы у себя оставил и не думал Джорджу отдавать! Как вы не понимаете?
Эдмондс тоже вскочил, его стул с грохотом отлетел назад. Он свирепо смотрел на Лукаса, и его трясло.
— Так ты и меня решил надуть. Меня, — сказал он дрожащим голосом. Ладно. Никакого развода ты не получишь. И машину отдашь. Завтра чуть свет принесешь ее ко мне. Слыхал?
Он вернулся домой, вернее в конюшню. При свете луны белел раскрывшийся хлопок; не сегодня-завтра его надо собирать. Бог накажет. Он понял ее, понял, что она пыталась сказать. Если предположить почти невероятное: что где-то здесь, в пределах досягаемости для Лукаса, зарыта и забыта хотя бы тысяча долларов, и еще более невероятное: что Лукас ее найдет, — как это подействует на человека, пусть ему уже шестьдесят семь лет и на счету у него в Джефферсоне, насколько известно Эдмондсу, сумма втрое большая; хотя бы тысяча долларов, на которых нет пота, во всяком случае его пота? А на Джорджа, зятя, у которого и доллара нигде нет, и самому ему не исполнилось двадцати пяти, и жене восемнадцать, и весной она родит ребенка?
Принять у него лошадь было некому; Дану он не велел ждать. Он расседлал ее сам, потом стал чистить, наконец открыл ворота на выгон, снял уздечку, хлопнул по крупу, высветленному луной, и она унеслась вскачь, выкидывая курбеты, а когда обернулась на миг, все три ее чулка и лысина словно блеснули под луной. «Черт побери, — проворчал он. — Как обидно, что я или Лукас Бичем не лошадь. Не мул».
Лукас не явился на другое утро с золотоискательной машиной. До девяти часов, когда Эдмондс уехал сам (это было воскресенье), он так и не пришел. Эдмондс уехал на автомобиле; он даже подумал завернуть к Лукасу по дороге. Но было воскресенье; он решил, что с мая и так портит себе кровь из-за Лукаса по шесть дней в неделю и, вероятнее всего, завтра с восходом солнца тревоги и хлопоты возобновятся, а поскольку Лукас сам объявил, что с той недели будет посвящать машине только субботу и воскресенье, он, видимо, счел, что эти два дня имеет право воздерживаться от нее самостоятельно. Поэтому Эдмондс проехал мимо. Отсутствовал он весь день — сперва был в церкви, в пяти милях от дома, потом еще на три мили дальше, на воскресном обеде у друзей, и там всю вторую половину дня рассматривал чужие хлопковые поля и присоединял свой голос к хору, поносившему правительство за то, что оно вмешивается в выращивание и продажу хлопка. Так что к воротам своим вернулся и снова вспомнил Лукаса, Молли и золотоискательную машину только вечером. В пустом доме, без него, Лукас машину бы не оставил, поэтому он сразу повернул и поехал к Лукасу. В доме было темно; он крикнул; никто не отозвался. Тогда он проехал еще четверть мили, до дома Джорджа и Нат, но и тут было темно, никто не отозвался на его голос. Может быть, угомонились наконец, подумал он. Может быть, они в церкви. Все равно через двенадцать часов уже будет завтрашний день и новые неприятности с Лукасом, а пока будем считать так, по крайней мере, это что-то обычное, известное.
На другое утро, в понедельник, он провел в конюшне битый час, а ни Оскар, ни Дан так и не появились. Он сам открыл стойла, выгнал мулов на пастбище и как раз выходил из кобыльего денника с пустой корзиной, когда в проход ровной усталой рысцой вбежал Оскар. Тут Эдмондс увидел, что на нем еще воскресный костюм — светлая рубашка, галстук и диагоналевые брюки с одной разорванной вдоль штаниной, до колена заляпанные грязью.
— Тетя Молли Бичем, — сказал Оскар. — Со вчерашнего дня пропала. Всю ночь искали. Увидели, где она к речке спускалась, по следу пошли. Только больно маленькая и легкая — следов почти не оставляет. Дядя Лукас, Нат с Джорджем, Дан и еще люди пока ищут.
— Я заседлаю лошадь, — сказал Эдмондс. — Мулов я выгнал; тебе придется поймать для себя. Живее.
На большом пастбище поймать кого-нибудь было непросто; почти час прошел, прежде чем Оскар приехал верхом на неоседланном муле. И только спустя два часа они нагнали Лукаса, Джорджа, Нат, Дана и еще одного человека, которые шли по следу — теряли, искали, находили, теряли и снова находили слабые, легкие отпечатки старушечьих ног, как будто бы без цели блуждавших у реки среди колючих зарослей и бурелома. Нашли ее около полудня, она лежала ничком в грязи, ее чистые вылинявшие юбки и белый фартук были порваны, измазаны, одна рука все еще сжимала ручку золотоискательной машины. Она была жива. Когда Оскар поднял ее, она открыла ничего не видящие глаза, потом закрыла.