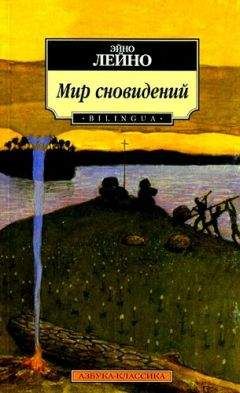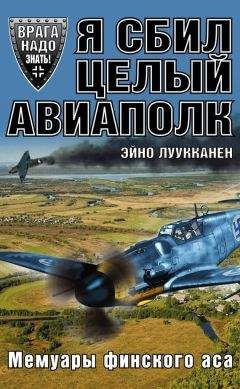Так Мишутка с цыганами добрался наконец-то до столицы Финляндии.
Цыгане водрузили свой шатер на улице Тёлё, и здесь им сопутствовал такой же успех, как и везде. Деньги просто текли в карманы главы табора. Успех этот был на самом-то деле Мищут-кин, но вечной артистической судьбой его было — обогащать других, а самому оставаться бедным как церковная крыса.
Зашел туда и директор временно расположившегося в городе цирка, посмотреть на трюки своих конкурентов.
Цыгане его ничуть не заинтересовали. Но он сразу пришел в восторг от Мишутки, пригласил главаря на следующий день побеседовать и спросил. сколько тот хочет за своего воспитанника.
— Десять тысяч, — ответил цыган не моргнув глазом.
Директор тут же выложил ему деньги на стол. И хотя цыган вначале подумал было, что заставил этого надменного господина порядком раскоше-литься, уходил он с буравящим душу чувством, что в этой игре умудрился все же вытянуть короткую спичку.
Мишутка в тот же день перешел к новому владельцу.
Цирк уезжал из города, и, кроме того, Мишут-ку вообще не стоило там показывать, потому что многие любители цирка уже заглянули из любопытства мимоходом в цыганский шатер.
И поэтому его вначале только посадили в клетку, а через несколько дней погрузили вместе с другими хищниками и остальной хурдой-бурдой на пароход, который должен был перевезти все заведение в Стокгольм.
Но уже оттуда началось Мишуткино победное шествие по Европе.
Он сразу же стал любимцем публики, как бывало повсюду. Никогда еще не видывали такого забавного, такого умного и понятливого медведя; и чем больше он усваивал и умел, тем больше от него требовали.
— Он гений, настоящий гений! — обычно говорил директор господину дрессировщику, потирая руки, довольный своей удачной покупкой. Он научится чему угодно. Попробуйте опять придумать что-нибудь новенькое к следующему разу.
И господин дрессировщик старался как мог. Он понимал, что речь идет о его месте и заработке.
Только теперь Мишутка узнал, какое огромное влияние в мире имеют искусство, публика и критики.
— Мое искусство, мое искусство! — вечно повторяли друг другу артисты цирка. И чем они были хуже и бесталанней, тем чаще и громче звучало это слово в их устах. «Мое искусство» требовало гак, и «мое искусство» требовало сяк. Но и у публики были свои требования, и перед ними приходилось отступать даже самому искусству.
— Плевал я на ваше искусство! — вопил директор. — Я вас спрашиваю: кто вам платит жалованье? Я! И откуда мне капают деньги? От публики! Стало быть, действуйте в соответствии с ее требованиями.
Это была ясная речь, которую даже цирковые артисты хорошо понимали. Ворча и брюзжа, подчинялись они воле директора и там, где их артистическая совесть резко возражала. Но на следующий день снова начиналось шуршание той же склоки.
Между искусством и публикой находились газеты со своими критиками. К ним относились с великим почтением. Они выступали полномочными представителями публики.
Гласом народа они, конечно, не были, потому что тот свободно и властно звучит с длинных рядов зрительских скамей от потолка и до пола. Но они были волей народа, вроде избираемых народом палат представителей и парламентов, и даже часто исполнителями этой воли — вроде правительств и министерств. Таким образом, как законодательная, так и исполнительная власть была в их руках.
Но ведь и над ними всегда находилась публика? Они тоже были зависимы от нее, и их место и заработок подвергались опасности, если они рисковали пренебрегать общепринятым мнением. Их воля была волей народа лишь постольку, поскольку она действовала в соответствии с волей народа.
Но они были жалкими простыми смертными, как и всё прочие, и никто из них большего и не желал. Потому что как личности они редко бывали значительнее остальных.
Мишутке, впрочем, не приходилось напрямую иметь с ними дело, поскольку он находился в счастливом положении: он не читал, и ему не нужно было читать газет. Но у него тоже был свой критик, и очень даже влиятельный в тех кругах, от которых зависели его собственное место и заработок.
Это был господин дрессировщик, его репетитор, никогда не выпускавший из рук плетку.
Его звали профессором.
Мишутка вскоре научился отличать его от всех остальных, ибо число им было легион, и он мог сквозь щели своей клетки наблюдать их всех.
Там были лошадиные профессора и львиные профессора, собачьи профессора и обезьяньи профессора. У каждого из них в руке была длинная плетка, и все они одинаково гордились своей профессией.
Это было подобие какого-то университета или академии искусств для зверей.
Их задачей было обучение своих воспитанников требованиям искусства. А уж директор заботился о требованиях публики.
Здесь Мишутка постиг азы искусства и вообще получил то скромное теоретическое образование, о котором он впоследствии столько же жалел и которое столь же ненавидел, сколько вначале был им счастлив и горд. Трудно было овладеть цм, и еще труднее — от него освободиться.
Искусство прежде всего требовало полного забвения собственной изначальной природы.
Мишутка, правда, был слишком тупоголовым, чтобы понять, сколько всего имелось под этим в виду, но все же уразумел, что ему отнюдь не годится быть таким, как есть, а надо стать гораздо изысканнее и выше.
Это было Мишутке ясно как день — в особенности по отношению к обезьянам и мартышкам. Сам же он, по собственному мнению, был уже достаточно изыскан и высок. И требовал для себя исключительного положения, которого его профессор никак не желал ему предоставить.
— Он ленив, ему неохота, — часто жаловался профессор директору на свои страдания. — Конечно, способности у него есть, но характер на редкость своенравный.
— Но он любимец публики! — накинулся на него директор. — Поэтому он и Мой любимец, и вы должны это принять к сведению.
— Но он ничему не учится, ничему не учится как следует! — причитал профессор. — Поэтому он никогда и ничего не будет как следует ни знать, ни уметь.
— Он счастливчик, — произнес директор, чтобы его утихомирить. — Ему и не нужно ничего знать или уметь. Он может делать, что пожелает, а публика все равно довольна.
— Он пропадет! — воскликнул профессор в отчаянии. — Лозу гнут смолоду! Если он в самом начале не исправит своих привычек, то будет до конца дней жалеть.
— У гения — права гения, — заметил директор, обращая мечтательный взор к высотам. — Он дар дающего все доброе. Его нужно принимать со смирением и благодарностью, а не с мелочным, ограниченным критиканством!
И директор, со своей стороны, заявил, что он счастлив, что в его заведении наконец-то появился кто-то, в ком есть искра. Поскольку искра — это все! Для такого игра то, что для других — труд, и поэтому не следует умничать из-за ерунды.
Тот, в ком была искра, никогда не мог ее потерять.
Он считал, что и в нем самом была когда-то искра, и до сих пор есть, хотя теперь она тлела, потрескивая, в глубине под крахмальной фрачной рубашкой и бриллиантовыми пуговицами. Но она все-таки там была, и это поднимало его в собственных глазах над повседневностью.
В свое время он был всего лишь заурядным гимнастом и наездником. Но потом вдруг осознал свое внутреннее призвание и стал клоуном.
Он был хорошим клоуном.
Он тоже был любимцем публики и потому до сих пор считал это первым признаком настоящего артиста.
— Публика всегда права, — говаривал он. — Критики еще могут ошибаться, но не публика. Она пальцем попробует… вот так — и сразу почувствует, где искра.
Он был весьма изящным юношей в те времена. Теперь это было толстопузое, лысое существо с двойным подбородком, навощенными усами, гвоздикой в петлице, на лице — озабоченное выражение пунктуального делового человека, который всегда спешит и всегда решает какие-то необычные, жизненно важные вопросы.
— Суровая необходимость, тяжелые материальные условия, — было у него обыкновение говорить подчиненным со вздохом. — Они вынудили меня стать директором. Мне пришлось принести себя в жертву. Но, слава богу, несмотря на теперешнее мое положение, я никогда не отдавался в рабство материальному и не мог забыть своего истинного призвания.
Выступал он теперь лишь изредка, да и в этом случае только как наездник, на спине какого-ни-будь очень породистого скакуна, который уже сам по себе был зрелищем. Делал он это как бы для забавы и чтобы показать своим старым поклонникам, что он еще существует и в нем еще жив прежний артист.
Тогда в цирке наступал торжественный момент. Тогда весь его персонал — от клоунов и воздушных гимнастов до последней танцовщицы и мальчишки-посыльного — собирался перед дверью, из которой он должен был выехать, и рослые герольды с маршальскими жезлами объявляли высокими голосами: