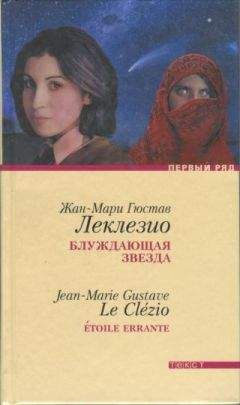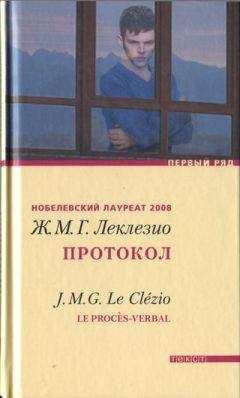Солнце опускалось к вершинам гор, и Эстер ощущала лицом приближение тьмы. А ведь и вправду была там гора, которую люди назвали этим именем: Мон-Тенебр, гора тьмы.
Эстер пристально смотрела, вдаль, на ущелье, на проем среди ледников. Медленно простиралась тень, накрывая долину, окутывая деревни. Там была жизнь, теперь Эстер слышала ее звуки: лай собак, звон колоколов, даже, кажется, детский крик. Ветер принес запах дыма. Там, внизу, подходил к концу самый обычный день. Никто больше не думал о войне.
Далекая вершина Жела, казалось, уплывала куда-то, парила над туманом, легкая, как облачко. Эстер смотрела на солнце, неотвратимо приближавшееся к горам, и думала о матери, там, внизу, в Фестионе. Элизабет, наверно, сейчас надела фуфайку поверх рабочего халатика: к ночи холодало. А Брао караулит ее, Эстер, на площади, ведь в этот час приютских детей ведут в церковь. Еще несколько минут Эстер смотрела на долину Вальдиери, на сверкающий льдом хребет, и ей казалось, кто-то вот-вот придет, спустится с этих вершин к окутанным туманом деревням, кто-то очень большой, прошагает через речки и луга, спиной к солнцу, и тогда наконец — она почувствует это — ее накроет его тень.
Порт Алон, декабрь, 1947 год
Мне семнадцать лет. Я уезжаю из этой страны и знаю, что навсегда. Доберемся ли мы когда-нибудь, не знаю, но уже совсем скоро отчалим. Мама сидит рядом со мной на песке, мы укрылись в полуразрушенной беседке. Она спит, а я просто жду. Мы обе закутались в плащ-палатку, которую дядя Симон Рубен дал нам перед отъездом. Это американский военный плащ, прочный и непромокаемый, он им очень дорожил. Симон Рубен — мамин друг, и мой тоже. Он очень помог нам. После войны, когда мы приехали в Париж, одни, без отца, он нас приютил. Он хорошо знал моего отца, дружил с ним, потому и приютил нас с мамой. Сначала мы жили у него в гараже, пока он еще не был уверен, что война кончилась и немцы не вернутся. Потом, когда стало ясно, что все и вправду позади и больше не нужно прятаться, он сдал нам половину квартиры на улице Гравийе — другую половину занимала слепая старушка мадам д'Алё, там мы и жили все это время. Но теперь у нас совсем не осталось денег, и мы не знаем, куда податься. Нигде больше нет нам места. Симон Рубен сказал маме, что дело не в деньгах, а в нашей жизни, что нам пора забыть. Он сказал: «Не пора ли забыть то, что засыпано землей?» Так и сказал, я хорошо это помню, только не сразу поняла, что он имел в виду. Он держал мамины руки в своих и, наклонившись через стол к самому ее лицу, повторял: «Надо уехать, чтобы забыть! Пора уже забыть!» Я не понимала, о чем он, что такое нам надо забыть, что засыпано землей. Теперь я знаю, он имел в виду моего отца, вот о чем он говорил, это отца засыпали землей, и его надо забыть. Я хорошо помню дядю Симона Рубена, старого, обрюзгшего, рядом с мамой, такой красивой, бледной и худенькой, совсем молодой. Помню ее лицо, большие подернутые дымкой глаза в черных-пречерных ресницах. Даже мне, ее дочери, она казалась тогда хрупкой и юной, совсем девочкой. Кажется, она плакала. Сюда мы добрались в предрассветном сумраке, а до этого долго шли в темноте под дождем от вокзала Сен-Сир, шли и слушали шум ветра в лесу, похожий на дыхание, и этот ветер гнал нас к морю. Сколько часов шли мы, не разговаривая, почти вслепую, ориентируясь только на слабенький свет карманного фонарика, промокшие, замерзшие? Дождь то лил, то переставал, и ветра временами не было слышно. Раскисшая дорога петляла среди холмов, спускалась в низины. Перед самым рассветом мы вошли в сосновую рощу. Огромные стволы приморских сосен высились перед нами в смутном свете моря, и наши сердца забились сильней, словно мы попали в незнакомый край. Наш проводник привел нас к этой разрушенной беседке и ушел. Мама села на песок, пожаловалась на боль в ногах, пару раз всхлипнула.
И вот теперь, в предрассветном сумраке, мы ждем. Ветер налетает порывами, холодный ветер, он все силится забраться под наш мокрый плащ. Мама прижалась ко мне. Она уснула почти сразу. Я не шевелюсь, чтобы не разбудить ее. Я так устала.
Из Парижа мы ехали в поезде. Вагоны были битком набиты, ни одного сидячего места. Мама легла на пол, подстелив картонку, в коридоре, у двери туалета, а я стояла, сколько могла, надо же кому-то присматривать за чемоданами. У нас два чемодана, обвязанных веревками. В них все наше богатство. Одежда, туалетные принадлежности, книги, фотографии, памятные вещицы. Мама взяла с собой два кило сахара, говорит, что там наверняка нехватка. У меня вещей совсем немного. Я взяла летнее платье, белое, перкалевое, перчатки, туфли на смену и, конечно, книги, которые я люблю, те самые, что отец читал нам вслух иногда вечерами, после ужина, про Николаса Никльби и мистера Пиквика. Это мои любимые книги. Когда мне хочется поплакать или посмеяться, достаточно открыть наугад любую из них — и я сразу нахожу именно то, что нужно.
А мама взяла только одну книгу. Ее подарил ей дядя Симон Рубен перед отъездом, Берешит, «В начале»[7], так она называется. Мама уснула на заплеванном полу вагона, несмотря на тряску, на дверь туалета, хлопающую прямо над головой, и запах… Время от времени кто-то идет в конец вагона воспользоваться удобствами. Увидев маму, спящую на полу на картонке, разворачивается, в другом конце тоже есть туалет. Но нашелся один, которому все-таки приспичило войти. Он встал над мамой и гаркнул: «Пардон!» — будто ждал, что она сейчас же проснется и вскочит. Мама продолжала спать, и он повторил несколько раз, все громче: «Пардон! Пардон! Пардон!» И нагнулся, пытаясь отодвинуть ее в сторону. И тут, не знаю, что такое на меня нашло, я не могла вынести, что этот жирдяй, ни жалости, ни совести, разбудит маму, чтобы спокойно сделать свои дела. Я кинулась на него, лупила кулаками, царапала, без единого слова, без крика, стиснув зубы и глотая слезы. Жирдяй попятился, точно от бешеной кошки, стряхнул меня и противно завизжал: «Вы еще узнаете! Вы еще увидите!» — со злостью, но и с испугом. Он ушел, а я легла рядом с мамой — она даже не проснулась — и поспала немного зыбким сном, полным грохота и тряски, от которой мутило.
В Марселе дождь. Час за часом мы ждем на огромном перроне. Мы с мамой не одни. На перронах толпится много народу с чемоданами и баулами. Ждем всю ночь. Холодный ветер продувает перрон, от дождя фонари в тумане. Люди спят на земле у своих чемоданов. Многие закутаны в накидки с эмблемой Красного Креста. Некоторые с детьми, те плачут, но быстро засыпают от усталости. Много мужчин в черном, это евреи, они без конца лопочут на своих языках. Лопочут и курят, сидя на чемоданах, и голоса отдаются странным гулким эхом в пустом вокзале.
Когда мы высадились в Марселе, незадолго до полуночи, нам никто ничего не сказал, но я услышала, как говорят друг другу люди на перроне: поезда на Тулон не будет до трех или четырех утра. Может быть, придется ждать на вокзале всю ночь, но какая разница? Время перестало для нас существовать. Мы в пути, мы уже так давно в пути, в мире, где не стало времени.
Тогда-то я и увидела его, на том же перроне, под большими круглыми часами, похожими на бледную луну. Он был на вокзале в Париже перед отправлением поезда — так давно, мне кажется, что с тех пор прошли недели. Он пробирался сквозь толпу, как раз когда поезд подъехал к перрону, с шипением выпуская клубы пара и скрежеща тормозами. Высокий, худой, кудрявый, с золотистой бородой, он очень походил на пастуха. Я тогда еще не знала, но его так и зовут: Жак Берже[8]. Вот я и прозвала его Пастушком.
Он пробирался сквозь толпу, ища что-то глазами — или кого-то, родственника, друга, может быть. Поравнявшись со мной, он вдруг задержал на мне взгляд, так надолго, что я отвела глаза и, чтобы он не увидел, как я покраснела, нагнулась к чемодану, будто бы хотела что-то достать.
Я забыла о нем… нет, не совсем забыла, но в поезде, из-за стука колес и тряски, из-за мамы, которая спала, как больной ребенок, на полу у двери туалета, я просто не могла думать ни о ком. Боже мой! Я ненавижу дорогу! Как можно ехать на поезде или плыть на корабле ради удовольствия? Я бы хотела всю жизнь просидеть на одном месте, день за днем смотреть на облака, на птиц, мечтать. И вот на другом конце перрона, как и в Париже, тот самый Пастушок стоит, словно ждет кого-то, родственника или друга. Даже с такого расстояния я вижу его взгляд в тени глазниц.
Коль скоро ждать придется всю ночь, надо как-то устроиться. Я положила оба чемодана плашмя, и мама прилегла на них, сидя на земле. Я тоже сейчас прилягу. Когда же все это кончится? Мне кажется, что я в пути всегда, с самого рождения, в поездах, в автобусах, на горных тропах, и так всю жизнь — Ницца, Сен-Мартен, Фестиона, снова Ницца, Орлеан, Париж, до конца войны. Там, в Париже, я поняла, что так и буду всегда в пути и нигде не найду покоя. Если бы я могла не думать больше о Сен-Мартене, о Бертемоне. Мама сказала однажды, что эти названия прокляты и нельзя их произносить. Даже мысленно.