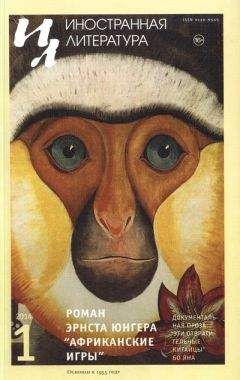Одинокое облако мало-помалу увеличивалось в размерах; в конце концов я догадался, что это дымка, окутывающая круто вздымающуюся из моря гору. К полудню контуры этого скалистого острова, вид которого поразил меня как нежданный подарок, стали более отчетливыми: я увидел белое кольцо прибоя и отвесные каменные стены, а между ними, в ущельях, — редкий кустарник. Я тщетно высматривал дома или следы человеческой деятельности, и их отсутствие наполняло меня счастьем.
Только белая конусообразная башня поблескивала в солнечном свете, на одном из самых высоких зубцов. Посреди светлого и пустого простора она напоминала волшебные замки Ариосто: казалась построенной скорее духами, чем людьми.
Всю вторую половину дня мы плыли вдоль острова; часто так близко, что я, казалось, слышал удары волн, разбивающихся об утесы. Этот берег представлялся мне преддверием более прекрасного и рыцарственного мира, а шум прилива — увертюрой к чудесным приключениям. Особенно меня занимали тайны, которые, как я предполагал, скрывались по ту сторону башни, и я испытывал все большее искушение добраться до острова вплавь. Я надел на себя пробковый пояс — из тех, что висели на поручнях, — и с нетерпением ждал наступления темноты. Однако еще прежде, чем стемнело, наш курс начал все дальше отклоняться от острова, который в конце концов растворился в туманной дымке. Бенуа, которому я рассказал о своей неудаче, посмеялся надо мной и заметил, что я недооценил расстояние, а также силу прибоя.
Тогда я еще не знал, что закон повторения, определяющий столь многие ситуации в нашей жизни, через несколько лет снова приведет меня на этот остров, относящийся к Балеарскому архипелагу. Я прожил там несколько недель в небольшой гостинице, где обычно останавливались английские офицеры, возвращающиеся из Индии, — даже не догадываясь, что нахожусь по другую сторону одинокой башни. Лишь в последние дни пребывания на острове я снова узнал ее, когда, пройдя через нагретые солнцем кустарниковые заросли, поднялся на гребень. Подобное зрелище всегда вызывает у нас чувство головокружения: кажется, будто время имеет дыры, в которые мы проваливаемся, возвращаясь к своему подлинному состоянию. Ничто не трогает нас сильнее, чем воспоминание о собственных безрассудствах, и потому я не мог не подняться на верх башни (в старые времена, очевидно, служившей наблюдательным постом против мавританских пиратов). Словно в зеркале, мне тут чудесным образом открылась другая сторона, мимо которой я когда-то проплыл, так и не увидев ее. Положение, в котором мы однажды оказались, обязательно повторится: время снова и снова набрасывает на нас свою сеть.
16
Вторую ночь я тоже провел в своем закутке, на парусине. Чуть свет меня разбудил Бенуа: чтобы показать мне берег Африки.
Я поспешно шагнул к поручням; было еще темно, лишь влажный ветерок намекал на начало нового дня. Я не увидел ничего, кроме дрожащего зеленого огонька, к которому мы медленно приближались. Потом в сумерках проступили размытые контуры гор. Наконец, позади нас из моря поднялось солнце и осветило гряду могучих округлых вершин — темно-красную в его свете. У их подножья море окаймляли плоские белые дома какого-то города. Бенуа назвал его Ораном; необычное название мне понравилось. Мы пришвартовались у каменной набережной, которая полукругом охватывала гавань и на которой ожидала нашего прибытия толпа оборванных темнокожих людей.
Теперь мы были на африканском побережье, и я бы с радостью прямо в порту сбежал, чтобы отправиться дальше своей дорогой. Однако нас, как прежде в Марселе, встретила группа солдат, и пришлось, хочешь не хочешь, ждать более подходящего случая.
Нас повели вверх по дороге, пробитой в красной горной породе. По обочинам росли запыленные алоэ; их цветоносы, мощные и сухие, как трут, протягивали иссохшие кисти с миниатюрными колокольчиками. Здесь мы впервые почувствовали, что значит более сильное солнце: Пауль и его товарищи поснимали куртки. По их разговорам можно было понять, что на пароходе они вволю оттянулись; они, похоже, вступили в заговор, чтобы и здесь сделать свою жизнь приятной, а работать как можно меньше. Один только Леонард плелся с печальным видом, большим носовым платком утирая пот со лба. Я беседовал с Бенуа обо всем, что попадалось нам по пути: о закутанном в грубый шерстяной плащ арабе, который протрусил мимо нас на ослике; о девушке с закрытой нижней частью лица и вытатуированной на лбу синей стрелой; о мальчике, тащившем насаженную на ивовый прут черную рыбу с красными жабрами.
Мы направлялись к низкому, цвета желтой глины, строению, которое венчало макушку поднимающейся из моря горы и которое Бенуа представил нам как форт Сен-Терез. В его стенах, как мы при входе увидели, помещался — помимо нескольких жалких бараков, где обитал личный состав, — четырехугольный мощеный двор, пропахший кухонными отбросами. Здесь нас накормили запеченной колючей рыбой с хлебом и налили нам по стакану вина; каждому также выдали стопку белья.
После еды нас отвели в запущенный сад, расположенный ниже обращенной к морю стены, в котором влачили жалкое существование немногочисленные фиговые деревья. Здесь нас выстроили перед большой кучей камней: мы должны были грузить камни в корзины, перетаскивать в другой конец сада и там возводить из них ограду.
Дело, как при всякой работе такого рода, продвигалось очень неспешно; все это походило на продолжительный послеобеденный разговор; Пауль еще и балагурил с солдатами, которые лениво присматривали за нами.
Я стоял, опираясь на лопату, возле кучи камней и время от времени наполнял корзину, которую Франке (с чьей угрюмой физиономии еще не исчезли следы от кулаков Реддингера) совал мне под нос. Но главным образом я с большим вниманием разглядывал нашу груду камней — ведь это было первое на Африканском континенте, что я мог без помех рассмотреть. Я ожидал от этой кучи чего-то особенного; правда, я и сам не мог бы сказать, чего именно: а вдруг, например, из какой-нибудь щели выползет золотистая змейка и развернет свои кольца… Так я неутомимо ждал до тех пор, пока солнце в небе не поднялось высоко, однако ничего подобного не случилось. Куча камней оставалась кучей камней, как и любая другая; она, судя по всему, ничем не отличалась от тех куч, какими можно любоваться в Люнебургской пустоши или в любой другой части света. Я мало-помалу начал скучать и был рад, когда время подошло к ужину.
Вернувшись в форт, я принялся основательно его изучать. Стена была не выше, чем в два человеческих роста; к ней примыкал деревянный сарай, в котором размещалась кухня и на который я мог бы без труда взобраться. Я решил поэтому сразу после наступления темноты смотаться отсюда — тем более что на мою независимость уже попытались посягнуть. То есть я обнаружил, что белье, которое мне выдали и которое я сунул в ближайший угол, бесследно исчезло; и был не особенно удивлен, ибо история с рюкзаком научила меня не надеяться, что я снова увижу вещи, по недосмотру выпущенные из рук. Мне это было безразлично; однако Бенуа, которому я мимоходом рассказал о случившемся, похоже, смотрел на дело иначе: он напустился на меня и попытался мне втолковать, что потеря казенного имущества причисляется здесь к самым серьезным прегрешениям и что с такими вещами не шутят. Велев мне ни с кем об этом не говорить и подождать его в одном из бараков, он стал прохаживаться возле четырехугольного водоема с фонтанчиком, похожего на поилку для скота и расположенного посреди двора. Заложив руки за спину, я с равнодушной миной наблюдал, как он слоняется между группками солдат гарнизона, стирающих там рубахи.
Барак, на который он мне указал, был плотно заставлен походными койками. Едва я прилег на одну из них, чтобы передохнуть, как какой-то поджарый малый подошел ко мне и сухим тоном потребовал, чтобы я поднялся. Не дожидаясь ответа, он отвесил мне такую затрещину, что я полетел на пол.
Поскольку я с детства болезненно реагирую на любые прикосновения, я в бешенстве схватил первое, что подвернулось под руку, — кухонную миску, из которой еще торчали рыбьи хвосты, — чтобы запустить этим предметом в голову обидчика. Солдаты, курившие или бездельничавшие здесь же, мгновенно развернулись к нам — очевидно, в предвкушении впечатляющей драки. И их ожидания, вероятно, оправдались бы, если бы еще один солдат, который читал, лежа на койке позади нас, не вмешался в ссору и не схватил меня за руку.
— Брось, Карл! — услыхал я его голос, еще не видя, кто говорит. — Не приставай к нему, он пока не привык к нашим суровым обычаям. А ты, малыш, оставь мою рыбу в покое и присядь-ка сюда, я приглашаю: кровать здесь — это четыре столпа, на которых держится наш мир, наше ultimum refugium[21], на которое никто не вправе посягать.
Нежданный посредник, предложивший нам выкурить сигарету мира, был человеком лет тридцати с решительным и приветливым лицом. Мы помешали ему в изучении тонкой брошюры — грамматики арабского языка. Из разговора, который он теперь завел с моим обидчиком — похоже, его давним знакомым, — я с нарастающим удивлением постепенно понял, что передо мной два хорошо образованных человека, и меня очень тронуло, что жалкая окружающая обстановка и простая военная форма, которую оба носили, никак не сказывались на содержании беседы. Напротив, именно из-за такого контраста она казалась каким-то особенным выражением свободы и человечности.