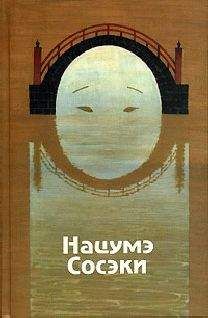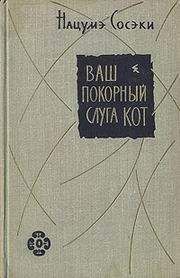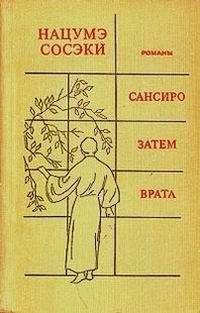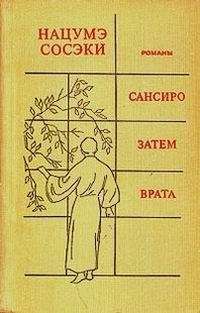В ответ за перегородкой послышалось покашливание хозяйки.
Я терпеливо выслушал по порядку все три рассказа, но, не найдя в них ничего забавного или поучительного, решил, что люди только и умеют что разговаривать друг с другом, когда им вовсе не хочется этого, да смеяться над тем, что совершенно не смешно, или радоваться тому, что печально. И все это только для того, чтобы как-то убить время. Я и раньше знал, что мой хозяин человек капризный и со странностями, но обычно он был немногословен, а поэтому я никак не мог понять его до конца. Мне даже казалось, что такая неясность таит в себе что-то страшное, но после сегодняшнего разговора мне захотелось презирать его. Что ему стоило молча выслушать рассказы тех двоих? Какой смысл нести несусветную чушь ради того, чтобы не отстать от других? Не знаю, может это Эпиктет заставляет так поступать. Одним словом, и хозяин, и Кангэцу, и Мэйтэй — самые обыкновенные бездельники, они делают вид, что им ничего не нужно, что они стоят выше всего будничного, в действительности же им свойственны и тщеславие, и алчность. В их повседневной болтовне всегда сквозит дух конкуренции, желание победить, победить во что бы то не стало, и если кому-нибудь удается выдвинуться вперед хоть на один шаг, они тотчас же уподобляются хищникам, запертым в одной клетке и всегда готовым перегрызть друг другу глотку. Единственное достоинство этих людей, достоинство весьма незначительное, заключается в том, что их слова и поступки лишены шаблонности, характерной для обыкновенных дилетантов.
От таких мыслей у меня вдруг пропал всякий интерес к их беседе, я решил, что уж лучше пойти проведать Микэко, и отправился во двор учительницы музыки. Праздничные ворота из живых сосен, украшенных симэ [44], исчезли — ведь как-никак после Нового года прошло уже десять дней, но ясное весеннее солнышко щедро освещало землю с высоты бездонного голубого неба, на котором не было видно ни единого облачка, и маленький, меньше десяти цубо, двор выглядел еще более свежим, чем в день Нового года. На галерее лежала только подушка для сидения, людей не было видно; сёдзи тоже были плотно сдвинуты — наверное, учительница куда-нибудь ушла, может быть даже в баню. Впрочем, меня мало интересовало, дома она или нет, я беспокоился о другом: поправилась ли Микэко. Вокруг стояла мертвая тишина, нигде поблизости не было ни одной живой души. Я поднялся на галерею и прямо с ногами развалился на подушке. Лежать, оказывается, было очень приятно. Незаметно подкралась дремота. Я забыл даже о Микэко и все глубже погружался в сон, когда за сёдзи вдруг послышались голоса детей.
— Большое тебе спасибо. Готово?
Значит, учительница все-таки была дома.
— Извините, я немного задержалась. Когда я пришла к мастеру, он как раз заканчивал.
— Ну-ка, покажи. О, красиво! Будет напоминать нам о Микэ. Позолота как, не облезет?
— Я спрашивала его об этом. Говорит, взял самую лучшую, продержится еще дольше, чем на ихаи [45], которые он делает для людей… А еще он немного изменил один иероглиф в ее посмертном имени Мёёсиннё, потому что, по его словам, будет красивее, если «ё» написать скорописью.
— Хорошо, давай побыстрее поставим на алтарь и зажжем ароматические палочки.
«Что с Микэко? Какие-то странные дела здесь творятся», — подумал я, поднимаясь на ноги.
«Динь», — раздался звук колокольчика, и учительница запричитала:
— Вечная тебе слава, Мёёсиннё, вечная тебе слава, Амида [46], вечная тебе слава, Амида. И ты молись за упокой ее души. «Динь». «Вечная тебе слава, Мёёсиннё, вечная тебе слава, Амида. Вечная тебе слава, Мёёсиннё, вечная тебе слава, Амида», — вторила служанка.
У меня вдруг тревожно забилось сердце. Я стоял на подушке словно деревянное изваяние, даже моргать перестал.
— Какое горе, какое горе! А ведь началось с небольшой простуды.
— Дал бы Амаки-сан хоть какое-нибудь лекарство, глядишь бы и обошлось.
— В общем, во всем виноват этот Амаки-сан, уж слишком пренебрежительно он отнесся к нашей Микэ.
— Не надо так плохо говорить о человеке. Видно, так суждено.
Оказывается, Микэко тоже лечилась у Амаки-сэнсэя.
— Короче говоря, все произошло потому, что этот учительский бродяга-кот частенько сманивал ее на улицу, я так думаю.
— Да, да, только эта скотина виновата в смерти нашей Микэ.
Мне хотелось как-нибудь оправдаться перед ними, но нужно было терпеть, и, затаив дыхание, я продолжал слушать.
Прервавшийся на минуту разговор возобновился:
— Как плохо устроен мир. Преждевременно умирает такая красавица, как Микэ. А этот урод здоров и продолжает шкодить…
— Ваша правда. Другого такого славного человека, как Микэ, днем с огнем не сыщешь.
Вместо «другой такой кошки» служанка сказала «другого человека». Видать, она и впрямь считает, что кошка и человек одно и то же. Лицом служанка действительно очень похожа на нас, кошек.
— Если можно бы было, то пусть вместо Микэ…
— Умер бы этот бродяга из дома учителя. Тогда не нужно было бы желать ничего лучшего.
Худо мне придется, если обстоятельства сложатся так, что мне не останется желать ничего лучшего. Я еще ни разу не испытывал, что это за штука — смерть, поэтому не могу сказать, понравится она мне или нет. Недавно было очень холодно, и я забрался в гасилку. Служанка же наша не знала, что я там, и накрыла гасилку крышкой. Страшно даже вспомнить, чего я тогда натерпелся. По словам Сиро-куна, продлись мои муки еще немного, и наступил бы конец. Я бы безропотно пошел на смерть вместо Микэко, но если, умирая, невозможно избежать таких мук, то ни за кого умирать не захочется.
— Покидая этот мир, она не должна ни о чем сожалеть. Ведь хотя она и кошка, над ней читал молитвы монах, и имя посмертное ей придумали.
— Конечно, конечно, но было бы еще лучше, если бы монах не торопился и читал более тщательно.
— Да, молитва была слишком короткой. Когда я ему сказала: «Что-то вы слишком рано кончили», Гэккэйдзи-сан ответил: «Я прочел самое главное, этого вполне достаточно, чтобы она попала в рай, — это же всего-навсего кошка».
— Ах, вон оно что… Ну, а если бы это был тот бродяга?…
Я уже не раз предупреждал, что у меня нет имени, но все-таки служанка учительницы упорно продолжает называть меня бродягой. До чего же невежливая особа!
— Велика его вина, и никакие молитвы не помогут ему попасть в рай.
Не знаю, сколько раз потом они еще повторили слово «бродяга». Я не мог дольше выносить этого разговора и, соскользнув с подушки, прыгнул на землю. Восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят моих волосков стояли дыбом, я дрожал всем телом. С тех пор я ни разу даже близко не подошел к дому учительницы музыки. Сейчас, наверное, по ней самой Гэккэйдзи-сан небрежно читает заупокойные молитвы.
В последнее время я не отваживаюсь выходить из дома. Жизнь мне представляется какой-то унылой и мрачной. По части домоседства я теперь не уступлю самому хозяину. Мне вполне резонным начинает казаться объяснение затворничества хозяина несчастной любовью.
Крыс я так ни разу и не ловил, и однажды служанка даже поставила вопрос о моем изгнании, но хозяин знает, что я кот не простой, а поэтому я продолжаю жить в этом доме, по-прежнему ничего не делая. Без всяких колебаний готов принести хозяину свою глубокую благодарность за проявленную им доброту и одновременно выразить восхищение его проницательностью. Меня даже не особенно сердит, что служанка настойчиво не желает меня замечать и обращается со мной очень грубо. Если бы сейчас вдруг явился Хидари Дзингоро [47] и принялся вырезать мой портрет на столбе у ворот, если бы японский Стейлен [48] взялся рисовать на холсте мое изображение, этим тупым слепцам пришлось бы устыдиться за свою непроницательность.
Микэко умерла, с Куро я так и не подружился, поэтому чувствую себя весьма одиноко, но, к счастью, знакомство с людьми скрашивает одиночество. Недавно один человек прислал хозяину письмо, в котором просит мою фотографию. А на днях кто-то специально для меня привез из Окаяма знаменитые кибиданго [49]. По мере того как растет внимание со стороны людей к моей особе, я постепенно забываю, что я кот. У меня такое ощущение, словно я незаметно для самого себя стал гораздо ближе к людям, чем к кошкам, и в последнее время мне уже совсем не хочется, скажем, созывать своих соплеменников и мериться силами с двуногими господами. Более того, я так изменился, что временами даже начинаю считать себя членом человеческого рода, и это внушает мне уверенность в моем будущем. Я вовсе не хочу сказать, что презираю своих соплеменников; просто вполне естественно, что я чувствую себя более спокойно, когда поступаю в соответствии со своей натурой, и мне бывает очень неприятно, если это истолковывают как измену, лицемерие или предательство. А ведь найдется немало людей с унылым, неуживчивым характером, которые только и ждут, чтобы изругать человека всевозможными мерзкими словами. Не могу же я, освободившись от кошачьих привычек, без конца возиться только с кошками. И все же мне хотелось бы с достоинством, равным человеческому, сказать свое слово об их внутренней сущности, их речах и поступках. Это было бы совсем не трудно. Мне только очень больно, что хозяин, несмотря на всю глубину моих познаний, обращается со мной, как с самым обыкновенным котенком, — не сказав мне ни слова, он без всякого зазрения совести съел кибиданго. И снимка моего он еще не сделал, и не отослал его по назначению. Этим я, конечно, тоже весьма недоволен, но что поделаешь — хозяин есть хозяин, а я есть я, и мы, естественно, расходимся во взглядах. Я почти окончательно превратился в человека, и поэтому мне довольно трудно писать о поступках кошек, с которыми я теперь не поддерживаю никаких отношений. Позвольте мне ограничиться описанием образа жизни господ Мэйтэя и Кангэцу.