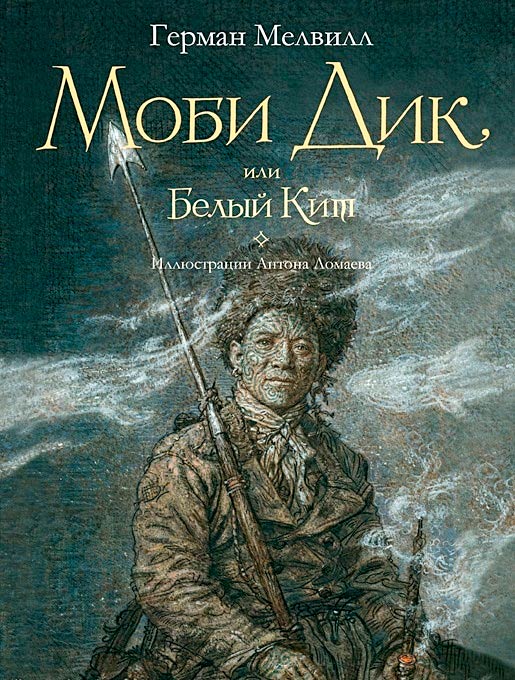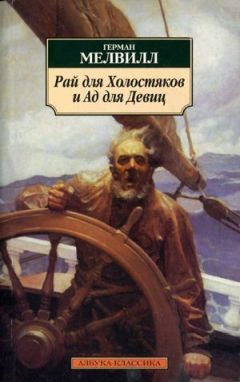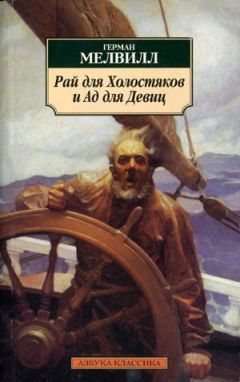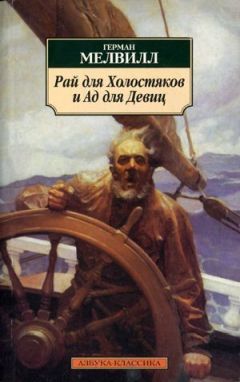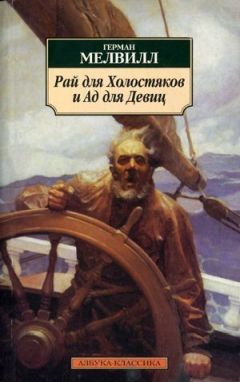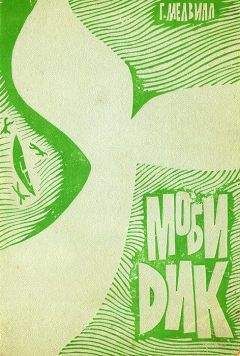чтобы запереть дверь, но в замке нет ключа. А Капитан, слыша, как он там без толку возится с дверью, смеется тихонько и бормочет себе под нос что-то относительно тюремных камер, которые не разрешается запирать изнутри. Иона прямо, как был, в одежде и покрытый пылью, валится на койку и видит, что потолок в этой маленькой каюте почти касается его лба. Воздух здесь спертый, Ионе трудно дышать. Уже теперь, в этой тесной норе, расположенной ниже ватерлинии, испытывает Иона вещее предчувствие того удушливого часа, когда кит заключит его в самой тесной темнице своего чрева.
Слегка покачивается привинченная к переборке висячая лампа; под тяжестью последних тюков судно накренилось в сторону причала, и лампа вместе с язычком пламени висит теперь немного косо по отношению к самой каюте; хотя в действительности, безукоризненно прямая, она лишь делала очевидной всю обманчивость и лживость тех уровней, среди которых она покачивалась. Лампа тревожит, пугает Иону; лежа у себя на койке, он усталыми глазами обводит каюту, и не на чем отдохнуть беспокойному взору этого доселе удачливого беглеца. А двусмыслие лампы внушает ему все больший страх. Все перекошено — пол, потолок, переборки. «Вот так же и совесть моя висит во мне, — стонет он, — прямо вверх устремлено ее жгучее пламя, но искривлены все приделы моей души».
Как человек, который после пьяного ночного кутежа торопится к своему ложу, и хоть голова у него еще кружится, а уже укоры совести начинают запускать в душу стальные крючья, вроде тех шипов на упряжи римского скакуна, что тем глубже впиваются ему в грудь, чем сильнее рвется он вперед; подобно этому человеку, который в мучительной дурноте мечется у себя на постели, моля бога, чтобы он даровал ему небытие, покуда длится это жалкое состояние, и наконец среди водоворота мук чувствует, как его охватывает глубокое оцепенение, подобное тому, в какое погружается умирающий от потери крови, ибо больная совесть — это та же рана, и ничем нельзя унять кровотечения; вот так и Иона, проведя на своей койке долгие мучительные беспокойные часы, наконец под тяжестью чудодейственного страдания погружается в зеленые глубины сна.
Но вот наступило время прилива; отданы швартовы, и от безлюдной пристани, сильно кренясь, отваливает судно и уходит в море, взяв курс на Фарсис. Это был первый в истории контрабандистский корабль, друзья мои. И контрабандой был Иона. Но море восстает, оно не желает нести неправедный груз. Разразился ужасный шторм, он грозит разнести корабль в щепы. Но теперь, когда боцман зовет всех наверх, когда с гулом летят за борт ящики, тюки и кувшины, под вой ветра и людские вопли, под дробный топот ног, от которого ходуном ходит дощатая палуба прямо у него над головой, — среди всего этого неистового рева Иона спит своим страшным сном. Он не видит черного неба и бушующего моря, не чувствует, как рассаживаются шпангоуты, и не чует, не ведает, что уж теперь издалека, рассекая волны, мчится за ним вдогонку, разинув пасть, огромный кит. Ибо Иона, братья мои матросы, спустился во внутренность корабля, улегся на койку в своей каюте и спит теперь крепким сном. Но перепуганный шкипер приходит к нему и кричит ему прямо в сонное ухо: «Ты что спишь, безумный? Вставай!» Пробудившись от этого отчаянного вопля, Иона опускается на ноги, спотыкаясь и теряя равновесие, выбирается на палубу и, уцепившись за канат, глядит на море. Но в этот самый миг огромная волна, подобно пантере, бросается на него из-за борта. Вал за валом обрушивается на корабль, и вода, не находя стока, с ревом мчится на корму и на нос, и матросы захлебываются, хоть корабль еще держится на воде. И всякий раз, как бледная луна показывает свой испуганный лик в глубоких промоинах среди бурного мрака на небе, объятый ужасом, видит Иона, как вздымается бушприт корабля, чтобы тут же снова нырнуть вниз, навстречу беснующемуся водному лону.
С воплями теснятся страхи в его душе. Как ни жмется, как ни прячется он, бегущий Господа, он теперь отмечен для всех взоров. Матросы замечают его, утверждаются в подозрениях, и наконец, только затем, чтоб удостовериться в истине, прибегнув к суду небес, решают они бросить жребий и узнать, кого ради постигла их великая буря. И пал жребий на Иону. Убедившись в этом, с какой яростью забрасывают они его вопросами: «Чем занимаешься ты? Откуда идешь? Где твоя страна? И из какого ты народа?» Но вы заметьте, матросы, как себя держит теперь Иона. Возбужденные моряки спрашивают его всего лишь, кто он и откуда, но получают они не только ответ на свои вопросы, но также и другой ответ, на вопрос, не заданный ими, неожиданный ответ, исторгнутый из Иониной груди твердой десницею Бога.
— Я еврей! — кричит он, а потом добавляет: — Я чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу.
Ты чтишь Его, Иона? Надлежит тебе ныне трепетать перед ним. И Иона тут же, не сходя с места, признается во всем, и, выслушав его рассказ, люди испытывают великий страх, но все же они жалеют его. И когда Иона, не решаясь еще молить господа о милосердии, ибо ему слишком хорошо известна вся глубина собственных прегрешений, когда несчастный Иона кричит им, чтоб они взяли его и бросили в море — ведь он знал, что это его ради постигла их великая буря, — они в жалости отворачиваются от него и пытаются спасти корабль иными способами. Но усилия тщетны, все оглушительнее вой негодующего шторма; и тогда, воздев призывно одну руку к небесам, другую они, сами не желая того, все же наложили на Иону.
Глядите! Вот Иону поднимают, словно якорь, и бросают в море; и тотчас же спокойствие маслом растекается по волнам с востока, и утихает море от ярости своей, и буря вместе с Ионой остается далеко за кормой, и гладкие волны окружают корабль. Иона идет ко дну среди такого дикого беспорядочного водоворота и бурлящего смятения, что он и не замечает даже, как попадает в поджидающую его разинутую пасть; кит захлопывает челюсти, лязгнув белыми зубами, словно бесчисленными засовами на дверях темницы. И тогда Иона помолился Господу Богу своему из чрева кита. Но обратите внимание на его молитву и усвойте важный урок. Как ни грешен Иона, он не вопит и не молит об освобождении. Он чувствует, что ужасное наказание справедливо. Освобождение свое он полностью предоставляет на волю Божию, довольствуясь сам лишь тем, что наперекор всем тяготам и мукам устремляет свой взор