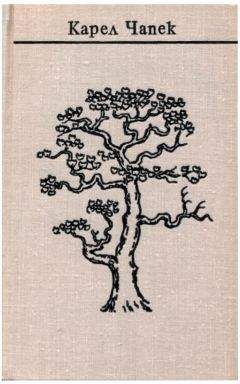Гельнай задумчиво помаргивает.
— А я, Карлуша, все думаю о лошадях. Штепан любит лошадей… У него одно на уме: как бы прикупить земли и завести табун. А тут, как раз рядом с гордубаловскими лужками, продавался участок земли. Манья, наверное, хотел, чтобы Гордубал купил его, а тот все нет да нет. И денежки припрятал за пазуху. Я не удивлюсь, если это окажется настоящей причиной.
— Ну, знаете, что в лоб, что по лбу. Так и так выходит из-за денег. Только не из любви к Полане.
— Кто знает…
— Нет, уж это вы оставьте, Гельнай. Вы старый служака и знаете деревню, а я молодой и, черт возьми, немного разбираюсь в женщинах. Видел я эту Полану — некрасивая, костлявая баба, да и старая к тому же. Правда, связь у них была, но, я думаю, что это ей стоило немалых денег. Из-за нее, Гельнай, Гордубал бы не погиб, из-за нее Штепан не пошел бы на убийство! А ради денег — да. Это ясно как божий день. Гордубал был деревенский скряга. Полане не терпелось получить наследство, чтобы содержать любовника, а Штепан — тот охоч до денег, — вот и все. Говорю вам, Гельнай, тут нет ни капли романтики. — Бигл щелкнул пальцами. — Грязная история и вполне ясная, друг мой.
— Отлично приведено в систему, вы молодец, Бигл! — похвалил Гельнай. — Не хуже, чем у господина прокурора. Все у вас выходит так просто…
Польщенный Бигл расплылся в улыбке.
— …Но все-таки, по-моему, Карлуша, было бы еще проще, если бы Гордубал скончался по воле божьей. Воспаление легких — и аминь. Вдова вышла бы за Штепана, родился бы у них ребеночек… Но вас не устраивает такой простой вариант, Бигл.
— Нет. Меня устраивает правда, Гельнай. Доискаться ее — дело настоящего мужчины.
Гельнай задумчиво моргает.
— А вы уверены, Карлуша, что вы ее нашли, эту настоящую правду?
— Эх, если бы еще найти шило!..
— …Судебное заседание по делу Штепана Маньи, двадцати шести лет, батрака, холостого, вероисповедания реформатского, и Поланы Гордубаловой, урожденной Дурколовой, вдовы, тридцати одного года, вероисповедания греко-католического, обвиняемых как сообщников в убийстве с заранее обдуманным намерением Юрая Гордубала, крестьянина деревни Кривой, объявляю открытым.
Встаньте, подсудимый. Вы слышали обвинительное заключение. Признаете себя виновным?
Подсудимый виновным себя не признает. Юрая Гордубала не убивал, в ту ночь спал у себя дома в Рыбарах. Деньги, что были за балкой, получил от хозяина, как приданое за Гафию. Алмаз у стекольщика не покупал. С хозяйкой в связи не был. Больше ничего сказать не имеет.
Подсудимая себя виновной не признает. Об убийстве ничего не знала, только поутру… На вопрос, откуда она узнала, что муж убит, сообщает, что видела только разбитое окно. С батраком в связи не была. Алмаз купил сам хозяин несколько лет назад. Убийца, скорее всего, проник через окно, потому что дверь всю ночь была на запоре.
Обвиняемая садится — подурневшая, желтая, в последней стадии беременности, из-за чего пришлось даже ускорить разбор дела.
Процесс тянется, подчиняясь неумолимой рутине судопроизводства. Зачитываются протоколы и заключения, шуршит бумага, присяжные стараются принять вид внимательных и благочестивых слушателей. Подсудимая сидит неподвижно, как изваяние, только глаза бегают беспокойно. Штепан Манья вытирает временами пот со лба и старается уразуметь все, что слышит. Кто знает, какая здесь закорючка, как повернут дело эти важные господа? Почтительно склонив голову, Штепан слушает и шевелит губами, как будто повторяя про себя каждое слово.
Суд приступает к допросу свидетелей.
Вызван Василий Герич, староста деревни Кривой, высокий, плечистый мужик. Он серьезно и не спеша повторяет слова присяги.
Свидетель одним из первых увидел покойника. Верно ли, что он сказал при этом: «Свой кто-то»?
— Верно.
— А почему?
— Так, по догадке, ваша милость.
— Известно ли вам, свидетель Герич, что Полана Гордубалова была в связи со Штепаном Маньей?
Свидетелю известно, он сам упрекал в этом Полану еще до приезда Гордубала.
— Обижал ли Гордубал свою жену?
— Вздуть ее надо было, ваша милость, — говорит Василий Герич, — дурь из нее выбить. Даже обед мужу варить не хотела.
— Жаловался ли Гордубал на свою жену?
— Нет, не жаловался, только от людей прятался да таял, как свеча.
Полана сидит, выпрямившись, и глядит в пространство.
Полицейский вахмистр Гельнай дает показание в соответствии с обвинительным заключением. Он указывает на вещественные доказательства. Вот стекло из избы покойного, поцарапанное изнутри алмазом. В тот день было грязно, и под самым окном была лужа, а в горнице не обнаружено ни следа грязи, и пыль на подоконнике осталась нетронутой.
— Может ли взрослый человек пролезть в это отверстие?
— Нет, не может. Голова и то не пройдет, а туловище и вовсе застрянет.
Допрашивается младший полицейский Бигл. Бигл стоит как на параде, исполненный служебного рвения. Его показания в точности соответствуют обвинительному акту. Алмаз он нашел в запертом ящике. Обвиняемая не хотела отпереть его, уверяя, что ключ утерян. Ящик был взломан, а ключ позднее нашелся на дне ведра с овсом. Свидетель также обнаружил в Рыбарах деньги покойного.
— Кроме того, — Бигл повышает голос, — я позволил себе принести еще кое-что, господин судья. — Бигл разворачивает носовой платок. — Я нашел это вчера, когда у Маньи вывозили навоз. Вещь была брошена в выгребную яму.
Бигл кладет на судейский стол тонкий, остроконечный металлический предмет, овального сечения, длиной сантиметров пятнадцати.
— Это что?
— Это, разрешите доложить, шило для плетения корзин. Принадлежало семье Манья и исчезло в день убийства.
Бигл держится невозмутимо, но в душе торжествует и наслаждается всеобщим вниманием. Пять недель он искал это проклятое шило, и наконец — вот оно.
— Подсудимый, вам знаком этот предмет?
— Нет, незнаком.
Мрачный, упорствующий Штепан садится на место.
Дает показания доктор. Он настаивает на том, что убийство совершено тонким остроконечным предметом овального сечения. Если бы Гордубал был застрелен, пуля осталась бы в теле. Между тем никаких ее следов не обнаружено. Доктор пространно объясняет разницу между колотой и огнестрельной раной. Кроме того, при столь малом калибре выстрел должен быть произведен почти в упор, так что был бы ожог на коже или, во всяком случае, рубашка была бы опалена.
— Могла быть рана нанесена этим предметом?
— Да, могла. Нельзя сказать с уверенностью, что именно этим, но, во всяком случае, этот предмет достаточно тонок и остер, чтобы нанести такую рану. Очень, очень подходящая вещица, — оценивает доктор. — Да, смерть наступила мгновенно.
И импульсивный доктор бегом возвращается на свое место.
Показания дает тюремный врач. Полана Гордубалова, по всем признакам, на восьмом месяце беременности.
— Обвиняемая! — произносит судья. — Можете не вставать. Кто отец ребенка, которого вы ждете?
— Юрай, — шепчет, опуская глаза, Полана.
— Со дня приезда Гордубала прошло пять месяцев. От кого же ребенок?
Полана молчит.
Старый Манья отказывается от показаний. Штепан сидит, закрыв лицо руками, старик утирает слезы кумачовым платком.
— Кстати, Манья, знаком вам этот предмет?
Старый Манья утвердительно кивает.
— Это же наше шило, мы им плетем корзины. — И он хочет сунуть шило в карман.
— Нет, нет, старина, шило останется здесь!
Михаль и Дьюла тоже отказываются давать показания. Судья вызывает Марию Ярношову.
— Будете давать показания?
— Буду.
— Правда, что ваш брат Штепан подбивал вашего мужа на убийство Юрая Гордубала?
— Правда, ваша милость. Но мой муж не пойдет на такое дело. Хоть сто пар волов ему дай.
— Был Штепан в любовной связи с хозяйкой?
— А как же, сам дома хвалился. Дурной человек Штепан, ваша милость. Нехорошо было обручать с ним малого ребенка. Слава богу, что все расстроилось.
— А что, свидетельница, очень злился ваш брат, когда Гордубал его выгнал?
Мария крестится.
— Ах, господи, ходил как черт, не ел, не пил, даже курить бросил…
Свидетельницу отпускают, она с плачем оборачивается в дверях.
— Ах, ваша милость, до чего мне жалко Штепана! Дозволите оставить ему малость денег на пропитание?
— Нет, нет, матушка, не нужны ему деньги. Ступайте себе с богом.
Суд вызывает свидетеля Яноша.
— Будете давать показания?
— Как господа прикажут.
— Правда ли, что Штепан предлагал вам убить Гордубала?
Свидетель смущенно хлопает глазами.
— Верно, говорил мне Штепан о чем-то. Дескать, ты бедняк, Янош, а мог бы разжиться деньгой.