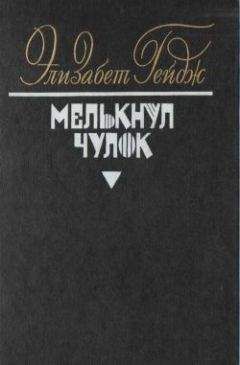Задний зал «Трех ламп» кишел старичьем. Мистера Фарра не было. Привалясь к стойке между каким-то делопроизводителем и адвокатом, я потягивал пиво и жалел, что меня не видит папа, хотя, с другой стороны, было неплохо, что он сейчас в гостях у дяди А. в Абервоне. Он бы, конечно, заметил, что я уже не мальчик, но он бы нервничал из-за того, как я держу сигарету, как сдвинул шляпу, он расстроился бы, увидев, как я жадно сжимаю кружку. Я наслаждался вкусом бело-пенного, буйного пива — оно сразу меняло мир за темным стеклом, наклонно кидалось к губам и солью обжигало язык по дороге в желудок.
— Еще разок, мисс. — Она была сильно немолодая. — А вы со мною не выпьете, мисс?
— На работе не могу. А так — спасибо.
— Что вы, что вы.
Может, это предложение выпить с нею попозже, обождать у черного хода, пока она выйдет, и потом брести в ночь, по променаду, по песку, к мягким дюнам, где парочки под плащами любятся и любуются на маяк? Толстая, некрасивая, волосы в сеточке рыжие, с сединой. Сдачу мне выдала, как мать дает деньги на кино своему сыночку, и я с ней не пошел бы гулять, хоть ты меня озолоти.
Мистер Фарр сбежал с Главной улицы, яростно отвергнув шнурки и спички, спасшись от нищих, обшарпанных толп. Он-то знал, что бедные и больные, нищие и отверженные окружают нас плотной стеной, и глянь только дружески, шевельни сочувственно пальцем — и тебе несдобровать, ты погиб, и вечер, считай, загублен.
— А-а, вы, значит, по части пивка? — раздалось у меня над ухом.
— Добрый вечер, мистер Фарр. Нет, это я так. А вы что будете? Жуткий вечер, — сказал я.
Укрывшись от дождя и зудящей улицы в надежном месте, где его не достанут нищета и прошлое, в компании солидных людей, он лениво принял в руки стакан и поднял на свет.
— То ли ещё будет, — сказал он. — Вот погоди, до «Фишгарда» доберемся. Твое здоровье! Увидишь, как моряки гужуются. А девушки в «Джерси»! Ух! Не пойти ли в нули чуть проветриться?
Мистер Эванс-Продукт влетел через боковую дверь, скрытую за шторкой, шепотом заказал выпивку и заглотнул тайком, прикрываясь полой пальто.
— Еще, — сказал мистер Фарр. — И полкружки для его светлости.
Бар был чересчур высококлассный, чтоб в нем почувствовать Рождество. Надпись гласила: «Дамы не обслуживаются».
Мы оставили мистера Эванса подзаряжаться дальше в его палатке.
Дети орали на Козьей, наглый мальчишка тянул меня за рукав: «Дяденька, подай денежку!» Огромная тетка в мужской фуражке торчала в дверях, шикарная девица возле зеленого уличного сортира напротив «Карлтона» нам подмигнула. Мы вошли, нырнули в музыку, все тут было увешано шарами и лентами, чахоточный тенор оккупировал рояль, хваленая барменша Лесли Берда кокетничала с юнцами, те выгибались, просили разрешения глянуть на её подвязки, предлагали джин с лимоном, прогулки под луной, свидания в кино. Мистер Фарр усмехался в свой стакан, я с завистью смотрел на юнцов, а она, польщенная, шлепала их по рукам, извивалась, уклонялась и, победная, гордая, поддевала пальцами кружки.
— Эхе-хе, — кряхтел довольный мистер Фарр, — уж и гульба нынче будет!
Другие юнцы — с зализанными волосами, коренастые, бледные, скуластые, кое-кто в оспинах, с провалившимися глазами, с заскорузлыми руками, в пронзительных галстуках, двубортных пиджаках и брюках клеш, шумные, под мухой — теснились у рояля, подпевали солирующему тенору с впалой грудью. Эх! Присоединиться к этому валкому хору, пятить грудь, орать, и чтоб меня называли «пижоном», «стилягой», а я бы строил барменше глазки, острил, крутил бы с нею любовь, которая кончится пшиком среди пивных кружек и грязных стаканов.
— А ну их, говноедов певучих, пошли, — сказал мистер Фарр.
— Надсаживаются, елки-палки, — сказал я.
— Ладно, пора куда-нибудь еще.
И мы потащились по Стрэнду, по той стороне, где морг, через утонувший в фонарном сиянии проулок, где рыдали дети, укрытые тьмой, и мы добрались до двери «Фишгарда», и тут кто-то укутанный, как мистер Эванс, скользнул из дверей, мимо нас, зажав в перчатке не то бутылку, не то штоф. В баре было пусто. Старик с трясущимися руками сидел за стойкой, уставясь на свои карманные часы-луковицу.
— С праздничком, папаша.
— Привет, мистер Эф.
— Каплю рома, папаша.
Красная бутыль протрепетала над двумя рюмками.
— Исключительная вещь, сынок.
— Глаза на лоб полезут, — сказал мистер Фарр.
Я держал голову высоко, незыблемо, никакому моряцкому рому было не пронять мое брюхо. Лесли Берд, несчастный, со своим портвейном мелкими глоточками, бедняга Джил Моррис, каждую субботу подводящий заплывшие глаза, — посмотрели бы они на меня сейчас, в этом темном низком зальце, обклеенном шелушащимися боксерами.
— Той же вещи, папаша, — сказал я.
— А где сейчас вся честная компания? В «Ривьеру» пошли?
— В заднем кабинете. Гулянка у них, в честь дочки миссис Протеро.
В заднем кабинете, под отсыревшим королевским семейством, на голой скамье сидели в ряд женщины в черном и хохотали и рыдали над пивными кружками. На лавке напротив двое мужчин в тельняшках, ценя чувства дам и смакуя питье, покачивали головами. А на отдельном кресле посреди комнаты громче всех хихикала и рыдала старуха в завязанном под подбородком чепце, в перьевом боа и белых теннисных тапочках. Мы подсели на скамью к мужчинам. Один красной рукой тронул кепку.
— По какому это случаю, Джек? — спросил мистер Фарр. — Познакомься, это мой коллега, мистер Томас. Это Джек Стифф, санитар из морга.
Джек Стифф сказал по секрету:
— Вон там эта — миссис Протеро. Мы её Гарбо прозвали, потому как совсем не похожа — гляньте. Ей с час назад из больницы сообщили, миссис Уинифред сюда сообщение принесла: дочка её вторая умерла родами.
— И младенец, девочка, тоже мертвая, — сказал второй, рядом.
— Вот старушки все в сочувствии, скинулись на немалую сумму, и сейчас она на это дело гуляет и всех потчует. Нам уже, считай, пинты по две перепало.
— Ну дела!
Ром в духоте взыграл, но голова у меня была ясная, как стеклышко, я мог до утра написать десять книг и, как бочонок, прокатить барменшу из «Карлтона» бережком по-над всей нашей Toy.
Перед новой аудиторией женщины взрыдали отчаянней, похлопывали миссис Протеро по рукам и коленкам, поправляли на ней чепец, превозносили покойницу дочку.
— Вам налить, миленькая миссис Протеро?
— Выпейте со мной этого пивка, уж здесь отменное пивко!
— Обожаю!
— Ну! Помянем нашу дорогую Маргошу!
— Эх, была б она сейчас с нами, спела бы нам «Типперери», голос-то у неё был дай бог, голос — будь здоров.
— Ах, не надо, не надо, миссис Харрис!
— Мы же вас ободрить желаем. Где наша не пропадала, а, миссис Протеро! Давайте споем, миленькая вы наша.
— Луна, сияя, над горой вставала,
Садилось солнце над седой волной,
Когда тебя я, милый, провожала,
Когда прощалася навек с тобой, —
пела миссис Протеро.
— Это дочки её песня любимая, — пояснил друг Джека Стиффа.
Мистер Фарр стучал меня по плечу. Его рука падала медленно, с дальней высоты, тонкий птичий голос несся с жужжащего круга на потолке:
— А теперь пора глотнуть свежего воздуха.
Зонты, чепцы, белые теннисные тапочки, бутылки, заплесневелый король, поющий санитар из морга, «Типперери» — все слилось в задней комнате; два маленьких человечка, мистер Фарр и его брат-близнец, провели меня по ледяному катку до двери, и воздух ночи накинулся на меня. Ночь вдруг заявила свои права. Стена упала, сбила с меня котелок, брат мистера Фарра провалился сквозь мостовую. Буйволом надвигалась ещё стена, и — надо б ему поправиться, сынок, глоточек перцовочки, глоточек коньячку? О-о-о, мамочки! Клин клином вышибай!
— Ну как? Лучше?
Я сидел в плюшевом кресле, которого раньше не видел, потягивал какую-то нафталинную муть и вникал в спор Теда Уильямса с мистером Фарром. Мистер Фарр утверждал:
— Ты сюда ходил смотреть на матросов.
— Нет, — говорил Тед. — Я местный колорит изучал.
На стенах были надписи: «Лорд Джерси», «Предлаг.: вздуть Томаса», «Кто спорит — тот дерьма не стоит», «Не ругаться, так вашу мать», «Дамам вход воспрещен, кроме дам».
— Смешной кабак, — сказал я. — Надписи — да?
— Ну как? Отпустило?
— Я в полной норме.
— Там для тебя девочка хорошенькая. Смотри — глазки тебе строит.
— Но она же без носа!
Питье мое мигом претворилось в пиво. Стучал молоточек: «Внимание! Внимание!» Председатель, без воротничка и с сигарой, просил мистера Дженкинса исполнить «Лилию Лагуны».
— По ходу заявок, — сказал мистер Дженкинс.
— Внимание! Внимание! Выступает Катя Севастопольская. Что, Катя, будешь петь?
Катя спела национальный гимн.
— Мистер Фред выступает со своей обычной похабелью.
Надтреснутый баритон портил хор. Опознав в нем свой собственный, я его потопил.