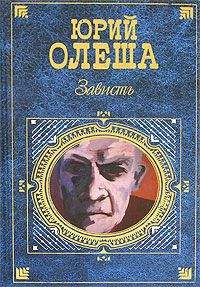Площадка, пожалуй, уже начинала свежо зеленеть. Да-да, уже безусловно появлялась новая трава!
Бутсы удивительно белели на этой зелени. Их можно было видеть главным образом быстро перемещающимися: по середине поля, по краям, в углах. Белые, быстро перемещающиеся башмаки.
У нас это были уже дни весны! Они пахли горьким запахом травы. О, подождите! Подождите! Сейчас я услышу этот запах, сейчас услышу!
Во время Олимпийских игр Одесского учебного округа состоялся также и финальный матч на первенство футбольных гимназических команд, в котором принял участие и я, как один из одиннадцати, вышедших в финал одесской Ришельевской гимназии.
Я играл крайнего правого. Я загнал гол – один из шести, вбитых нами Одесской 4-й гимназии, также вышедшей в финал.
После матча меня качали выбежавшие на поле гимназисты разных гимназий. Как видно, моя игра понравилась зрителям.
Я был в белом – белые трусы, белая майка. Также и бутсы были белые, и черные с зеленым бубликом вокруг икры чулки.
Однако инспектор учебного округа Марданов, царской красоты армянин из воска и черной пакли, обратил внимание на то, что этот маленький футболист, то есть я, несколько бледен. Не вредно ли для здоровья играть ему в футбол?
Через несколько дней в грелке на футбольной площадке меня выслушивал врач. Он сказал, что у меня невроз сердца и мне играть в футбол нельзя. Я сразу как бы почувствовал себя тяжелобольным. Почувствовал, как бьется сердце, как ни с того ни с сего хочется сесть, посидеть.
Этот Марданов сыграл в моей жизни роковую роль, так как из-за него я почувствовал впервые, что есть невозможность, запрет.
Трудно себе представить, что все это было со мной. Как много было впереди – даже та сцена, когда… Мало ли какая сцена была впереди!
Мы возвращались уже среди сумерек. Цветы уже все казались белыми – и они были очень неподвижными, эти маленькие белые кресты, кресты сумерек.
Наши ноги в футбольных бутсах ступали по ним. Мы просто не видели их. Это теперь, вдруг оглянувшись, я увидел целый плащ цветов – белый упавший в траву рыцарский плащ.
Со спортивной площадки мы иногда возвращались не по Французскому бульвару, а через Ботанический сад. Это значило, что путь наш будет короче, но значило также, что путь будет полон опасностей. Ботанический сад, или, как назывался он среди мальчиков, Ботаника, ничего общего с наукой ботаники не имел. Может быть, было когда-либо время, когда там росли и расцветали какие-либо цветы или деревья, посаженные во имя науки и знания, но этого времени никто из нас, гимназистов, разумеется, не помнил. Также не помнили об этом времени и взрослые. Лес? Нет, для леса это было слишком жидко, да и торчали в середине этого леса деревянные остатки балагана. Сад? Нет, для сада это было слишком голо, слишком песочно, пыльно. Пустырь с дикоразросшимися деревьями? Пожалуй, так. Во всяком случае, это была глушь, и проходить через нее было страшно. Нам, гимназистам, страшно в особенности: там на гимназистов охотились. Кто? Мальчики, жители ближайших улиц или просто прятавшиеся там уже отверженные мальчики.
Одна из особенностей молодости – это, конечно, убежденность в том, что ты бессмертен, и не в каком-нибудь нереальном, отвлеченном смысле, а буквально: никогда не умрешь!
Безусловно, я никогда не умру, думал я в молодости. Пока я стану взрослым, пока пройдут годы, что-нибудь изобретут, что не даст людям умирать. Это «пока пройдут годы» представлялось какой-то золотистой городской далью, каким-то городом будущего с обложки фантастического романа, и там, в этой дали, люди уже давно бессмертны! Интересно, что бессмертие представлялось как результат какого-то открытия, изобретения. Какие-то большие машины, молнии тока шириной в дерево…
Странно, никто из писателей не отмечает этой уверенности молодых в бессмертии.
В те времена в Одессе февраль, особенно конец его, – о, это уже была весна! Во всяком случае, продавали фиалки; во всяком случае, спускаясь по маленьким скалам какого-либо Большефонтанского берега, вы вдруг из-за скалы могли уже увидеть не серый хаос зимнего моря, а само море – синее и свежее, как глаз!
Фиалки продавались букетиками – пять, шесть цветков, которые повисали вокруг вашей руки на тонких стеблях. Цвет фиалок был густо лилов, бархат времен пажей… Фиалка казалась теплой, пальцы ваши, побывавшие, прежде чем взять букет, в воде, были холодными… Так в молодости начиналась весна.
Я стою в толпе на булыжной мостовой и вместе со всеми слушаю несущееся из окна пение.
Поет артист, которого мы не видим. Где он? Никто в толпе этого не знает. Перед нами только труба, направленная на нас своим раскрашенным в золото и красное раструбом. Да, это труба, но я сказал бы, что передо мной нечто вроде огромного колокольчика; совершенно верно, труба эта похожа на сорванный в траве лилово-красный, чудовищно увеличенный и наклонно поставленный колокольчик.
Из него и раздается пение.
– Карузо! – сообщает появившийся в толпе чиновник со сложенным зонтиком, который он держит под мышкой, черный, чем-то напоминающий птичью ногу зонт. – Ария Канио. Это Карузо.
Где же он, если это он, Карузо!
Труба не неподвижна. Нет, она не перестает пребывать в движении, но трудно понять это движение, трудно определить, трудно назвать. Она ходит, оставаясь на месте, – то подается вперед, то опять уходит.
Которые повыше, видят нечто, что называют диском.
– Вот-вот, – говорит чиновник, – записывают на диск. Голос артиста записывают на диск, и вот мы слышим.
В окне появляются хозяева граммофона – несколько взрослых и несколько детей. Они узнают в толпе чиновника, машут ему рукой, зовут его к себе. Он отвечает, что да, да, сейчас придет, и семенит к крыльцу. Переулок короткий, булыжный, между булыжником трава; чиновник поднимается на железное крыльцо тоже среди травы и рядом с водопроводной трубой, серый цинк которой покрыт белыми цинковыми звездами…
Классическую музыку я впервые узнал уже в зрелые годы. Понял ее, полюбил еще позже. Что же было музыкой до того? Знал и любил все же Шопена. В основном музыкой были известные концертные вальсы, опереточная музыка, марши, танго, танцы типа краковяк и все остальное, что играли в садах и на граммофонных пластинках.
В садах играли военные духовые оркестры. В детстве было даже не столько интересно слушать, сколько смотреть, как играют: как движется оркестр, как дирижирует молодой щуплый капельмейстер. Они играли в так называемых ротондах – в деревянных полукруглых помещениях, с одной стороны открытых, как бы в половине барабана. Это называлось также и раковиной. Там, на досках пола, под ножками пюпитров, валялись опавшие листья, гравий, всякий сор, занесенный туда с дорожек сада мальчишками, – и это было образом запустения.
Я приехал давать свой очередной урок маленькому ученику на даче, где он жил с родителями.
Они жили на Куяльницком лимане.
Жаркий день, желтый жаркий день в дынных корках, в чаду жарящейся рыбы, криках кухарок и разносчиков, взвизгиваниях ножей… Подумать только, и среди этого полного равнодушия к чему бы то ни было умственному, среди этой атмосферы чувственного благополучия, начинавшегося обсуждением того, как хорошо варится кукуруза, и кончавшегося лежанием кверху животом дорогой кошки, – мне, маленькому гимназисту, приходилось давать урок по геометрии и по придаточным предложениям, причем такому же захваченному чувственностью мальчику…
Как было приятно в эпоху первой любви, выйдя на поляну перед дачей, увидеть вдруг девочку в другом платье – не в том платье, в котором привык ее видеть, а в другом, новом, как видно, только что сшитом. Пожалуй, оно было синее, отделанное по воротнику и подолу, а также по концам рукавов красной тесьмой. Это появление возлюбленной в новом платье усиливало любовь чуть не до сердцебиения, чуть не до стона. Страшно было даже приближаться к ней, и она, тоже восхищенная собой, оставалась стоять недалеко от черного дерева, с отчетливо видимыми издали локонами. Между нами было пространство осенней, в кочках, земли, на которой ни с того ни с сего вдруг начинали кувыркаться листья.
Иногда думаешь, как коротка жизнь. Это неправда, я живу долго. Как, например, далек тот день, когда я, выйдя на бульвар, шел вдоль ребра его, нависшего над портом, вглядываясь в серое море, в панораму порта и ища следов того, что произошло этой ночью. Этой ночью турецкий броненосец ворвался в порт и, открыв стрельбу, потопил нашу канонерскую лодку, а также повредил французское коммерческое судно. 1915 год? Вот как давно это было, первая империалистическая война! Для нынешних моих современников – и не слишком уж молодых, да просто для зрелых людей нашей эпохи! – то, что я вспоминаю сейчас, как свидетель, представляется, по всей вероятности, таким же отдаленным прошлым, как мне представлялись, скажем, рассказы моих старших современников о взятии Шипки!