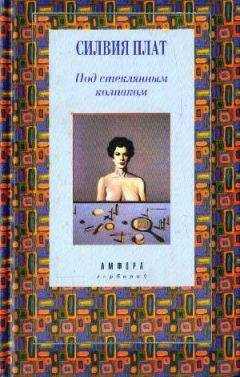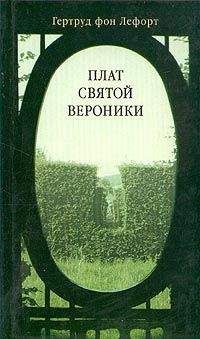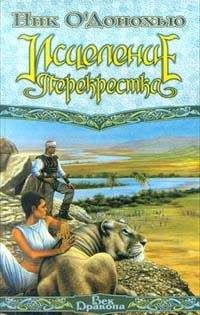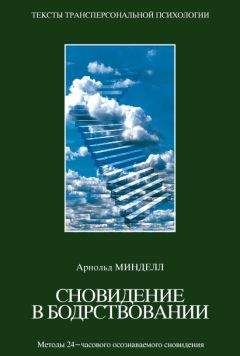— Страшно, что такие люди живут на свете.
И тут она зевнула, и в ее бледно-оранжевом рту открылась огромная темная пропасть. Как загипнотизированная, я уставилась туда и не могла отвести взгляда, пока губы не сомкнулись и дьявол, прячущийся в глубине ее тела, не заговорил вновь:
— Я так рада, что их казнят.
* * *
— А ну-ка, улыбнитесь!
Я сидела на красном бархатном канапе в офисе у Джей Си, держа в руке бумажную розу и позируя журнальному фотографу. Снимали всю нашу дюжину по очереди, и я была последней. Я пыталась спрятаться в дамской уборной, но это не сработало. Бетси углядела мои ноги под дверью кабинки.
Я не хотела фотографироваться, потому что боялась разрыдаться. Я не знала, почему мне хочется разрыдаться, но понимала, что стоит кому-нибудь заговорить со мной или просто посмотреть на меня чересчур внимательно — и слезы сами хлынут у меня из глаз, а рыдания вырвутся из горла, и я не смогу успокоиться целую неделю. Я уже чувствовала, как слезы булькают и трепещут во мне, словно вода в неровно установленном и налитом до краев стакане.
Это были последние съемки перед отправкой журнала в печать, равно как и перед нашим возвращением в Талсу, Билокси, Тинек, Кус-Бэй и прочие милые места, откуда мы прибыли, и нам предстояло сфотографироваться с предметами, представляющими собой символические обозначения того, чему каждая из нас решила посвятить свою жизнь.
Бетси сфотографировалась с колосом пшеницы, чтобы показать, что она хочет стать женой фермера, а Хильда — с лысым и безликим муляжом человеческой головы, чтобы показать, что она хочет делать шляпки, а Дорин взяла в руки шитое золотом сари, чтобы показать, что она хочет оказывать социальную помощь жителям Индии (чего она, как сама же сообщила мне, совершенно не хотела, а стремилась лишь сфотографироваться с этим сари в руках).
Когда меня спросили о том, кем я хочу быть, я ответила, что не знаю.
— Да бросьте, конечно же, вы это знаете, — сказал фотограф.
— Она, — едко сказала Джей Си, — хочет стать всем на свете сразу.
Тогда я заявила, что хочу стать поэтессой.
И они принялись спорить о том, что мне в таком случае следует вручить.
Джей Си предложила дать мне в руки сборник стихотворений, но фотограф сказал, что это будет слишком плоско. Необходимо что-нибудь, что могло бы означать источник вдохновения. И наконец Джей Си вынула бумажную розу на длинном стебле из своей впервые надетой сегодня шляпки.
Фотограф засуетился со своей лампой-вспышкой:
— Покажите-ка, какое счастье вам доставляет сочинение стихотворений.
На окошке в офисе стояли горшки с каучуковыми деревьями. Поверх них я поглядела на синее небо. Справа налево по нему медленно скользили легкие, но пушистые облака. Я принялась следить за самым большим из них, словно, когда оно исчезнет за горизонтом, мне повезет настолько, что я смогу исчезнуть вместе с ним.
Мне казалось чрезвычайно важным держать губы плотно сжатыми.
— Ну улыбнитесь же.
В конце концов мой рот начал медленно разъезжаться, как губы чревовещателя.
— Да нет, — запротестовал фотограф, внезапно проявив проницательность. — Вы выглядите так, словно вот-вот расплачетесь.
И здесь мне уже ничего не могло помочь.
Я уткнулась лицом в красную бархатную обивку канапе и с бесконечным облегчением почувствовала, что соленые слезы и жалкие всхлипы, переполнявшие меня весь этот день, вырвались наружу и растеклись по комнате.
Когда я сумела поднять голову, фотографа в офисе уже не было. Исчезла куда-то и Джей Си. Я чувствовала себя отвратительной и в то же время обманутой, как кожа, которую сбросило с себя какое-нибудь мерзкое чудище. Хорошо, конечно, было освободиться от этого чудища, но, исчезнув, оно забрало с собой мою душу. Да и не только ее, а все, на что ему удалось наложить лапы.
Я принялась рыться в сумочке, ища золоченую коробочку с тушью, тенями, щеточкой, тремя сортами помады и боковым зеркальцем. Лицо, глянувшее на меня из зеркальца, словно смотрело на мир из тюремной камеры, причем казалось, что узницу только что жестоко избили. Оно заплыло, было все в ссадинах, и притом совершенно неестественного цвета. Это было лицо, взывавшее к воде, и к мылу, и к христианскому милосердию.
Я малодушно начала приводить его в порядок.
Приличное время спустя в кабинет вернулась Джей Си. В руках у нее была целая охапка машинописных текстов.
— Вот, — сказала она, — позабавься. Почитай на здоровье.
Каждое утро снежная лавина рукописей наметывала седые сугробы в офисе редакции художественной литературы. Должно быть, люди тайком предавались сочинительству по всей Америке — на чердаках, и в подвалах, и даже за школьными партами. Допустим, каждую минуту кто-то один из них заканчивал очередное сочинение — тогда в течение пяти минут на столе у редактора появлялось пять новых рукописей. За час их накапливалось шестьдесят; места на столе для них уже не находилось, и они складывались стопками на полу. А за год…
Я улыбнулась, представив себе, как по воздуху поплыла изящно оформленная рукопись с именем Эстер Гринвуд, напечатанным в правом верхнем углу. Прожив месяц в Нью-Йорке, я рассчитывала затем принять участие в занятиях летней школы, проводимых известным писателем. Для этого необходимо было послать на конкурс рассказ; писатель прочитывал его и определял, достойны ли вы сотрудничать в его семинаре. Разумеется, число участников должно быть крайне мало, и я послала на конкурс рассказ уже давным-давно, а писатель все еще не давал знать о своем решении, но я была абсолютно убеждена в том, что, вернувшись домой, найду приглашение в летнюю школу у себя на письменном столе.
Я решила разыграть Джей Си, послав ей парочку рассказов, которые я напишу во время занятий в этой школе, понятно, под псевдонимом. И тогда однажды редактор редакции художественной литературы придет к ней, со стуком опустит на стол стопку моих рассказов и заявит: «Вот нечто заметно выше среднего уровня», и Джей Си согласится с его мнением, и примет рассказы к печати, и пригласит автора на ленч, и этим автором окажусь я.
* * *
— Да нет, — сказала Дорин, — честно: это совершенно другой случай.
— Расскажи мне о нем, — неумолимо произнесла я.
— Он из Перу.
— Они там все низкорослые. И уродливые.
— Нет-нет, дорогая. Я его уже видела.
Мы сидели с ней у меня на постели посреди грязных хлопчатобумажных платьев, нейлонового и фланелевого нижнего белья, и уже на протяжении десяти минут Дорин пыталась убедить меня поехать в загородный клуб на танцы с кем-то из приятелей одного из приятелей Ленни, который, на чем она настаивала, самим приятелям Ленни был не чета, но, поскольку на следующее утро мне предстояло уезжать восьмичасовым поездом, я считала необходимым предпринять попытку собрать вещи.
И еще во мне жила туманная надежда на то, что, если я посвящу всю свою последнюю ночь в Нью-Йорке одинокой прогулке по улицам, мне, возможно, в конце концов откроются какие-то настоящие тайны города и хотя бы крупицы его подлинного величия.
Но, конечно же, я сдалась.
В эти последние дни мне становилось все трудней принять какое бы то ни было конкретное решение.
А когда я в итоге принимала его, то не доводила дело до конца — вот как, например, сейчас решила собрать чемодан — я всего лишь вытащила свои некрасивые и дорогие наряды из шкафа и из комода, раскидала их по кровати, по креслу и по полу, а затем уселась и принялась смотреть на них с полнейшим недоумением. Казалось, каждый из них обладает какой-то отдельной и по-ослиному упрямой индивидуальностью, решительно противящейся стирке и утюжке.
— Все дело в этих тряпках, — объяснила я Дорин. — Я вернусь, а они тут накиданы.
— Ну, это-то пустяки.
И со своей всегдашней, исполненной изящества азартностью Дорин начала подбирать мои трусики, чулки и изысканные — без бретелек — лифчики (дар компании по производству корсетов, которым я, однако же, так и не посмела воспользоваться), а затем и, одно за другим, печальную вереницу моих безобразно пошитых платьев по сорок долларов за штуку…
— Эй, послушай-ка. Вот это не надо. Я его надену!
Дорин извлекла из охапки платьев нечто причудливое, черное и швырнула мне на колени. А затем, скатав все остальное в мягкий шар, похожий на гигантский снежок, запихала его с глаз долой под кровать.
* * *
Дорин постучала в зеленую дверь с золоченой ручкой.
Изнутри послышался шорох и сразу же оборвавшийся мужской смех. Затем высокий юноша в рубашке с засученными рукавами приоткрыл дверь и выглянул. Его золотистые волосы были расчесаны на пробор.
— Детка! — заорал он что есть мочи.
Дорин утонула в его объятиях. Я подумала, что это, наверно, и есть приятель Ленни.
Я тихо стояла у дверей в моем черном панцире и черной накидке. Мое лицо было еще желтей, чем обычно, а ожидала я на этот раз еще меньшего, чем всегда. «Я всего лишь наблюдательница», — твердила я себе, глядя, как высокий блондин провел Дорин в квартиру и представил другому мужчине, столь же высокому, но смуглому и со сравнительно длинными волосами. Этот брюнет был одет в безукоризненно белый костюм и бледно-голубую рубашку с желтым шелковым галстуком. Галстук был заколот яркой булавкой.