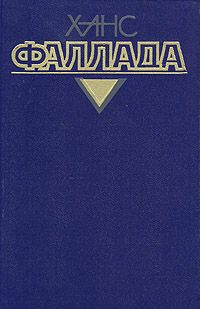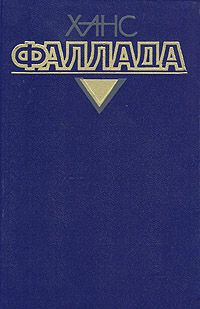Она стояла бледная, вся дрожа, у стены. Смотрела на него широко раскрытыми глазами…
— Я дезертир? Я трус? — все яростнее кричал он и все сильней чувствовал, что нервы сдают. Он и не хотел и все же должен, должен был все высказать, наконец-то высказать.
— Что вы знаете о трусости и о мужестве? Я тоже считал, что знаю. Я думал, что быть смелым — значит стоять прямо, когда рвется граната, принести, как собачка поноску, осколок гранаты… Теперь я знаю, что это глупость и пустое удальство; быть смелым — значит терпеть, когда уже мочи нет терпеть. Смелым был вот этот старый трус, который здесь умер.
Он бросил на нее быстрый светлый взгляд. Он сказал:
— Но должно быть что-то большое, ради чего стоит быть смелым. Должно быть какое-то знамя, за которое стоит бороться. Где ваше знамя, фрау фон Праквиц? Вы бежите первая!
Настало долгое, унылое, тяжкое молчание. Пагель медленно подошел к письменному столу, он сел, он уперся головой на руку.
Ну, хорошо, он заговорил, все, что накопилось за последние недели, высказано, — а что дальше?
Женщина отделилась от стены, она тихонько подошла, легко положила ему руку на плечо.
— Господин Пагель! — тихо сказала она. — Господин Пагель, — все это верно, я эгоистичная, трусливая, легкомысленная женщина, — не знаю, сейчас ли только я стала такой, но я такая, вы правы. Но ведь вы-то не такой, господин Пагель, ведь вы другой, не правда ли?
Она ждала долго, но он не отвечал. Плечо под ее рукой не шевельнулось.
— Будьте же еще раз тем, чем вы были до сих пор: юным, самоотверженным, — не для меня, господин Пагель, у меня действительно нет знамени для вас. Но я надеюсь, что вы останетесь в Нейлоэ до тех пор, пока не вернутся мои родители. Я прошу вас перебраться на виллу. Господин Пагель, я все еще надеюсь, что Виолета в один прекрасный день постучится в ту дверь… Не уезжайте! Пусть усадьба не будет совсем одинокой, когда она вернется…
Снова продолжительная тишина. Но уже другая тишина, полная ожидания. Фрау фон Праквиц сняла руку с его плеча, она сделала шаг к двери. Он молчал. Она сделала второй, третий шаг, она взялась за ручку двери — тогда Пагель спросил:
— Когда приедет ваш отец?
— У меня с собой письмо к отцу. Я еще сегодня опущу его во Франкфурте. Я думаю, отец сейчас же вернется, как только узнает, что мы уехали. Значит, через три-четыре дня.
— До тех пор я побуду, — заявил Пагель.
— Благодарю вас. Я это знала.
Но она не уходила, она медлила, она ждала…
Он пошел ей навстречу. Он устал от всяких околичностей.
— Насчет денег, — сказал он коротко. — В кассе у меня около ста рентных марок, вы их получите. В ближайшие дни я продам все, что можно продать, вы уже решили, где будете жить?
— В Берлине.
— Где именно?
— На первых порах в гостинице.
— В той, где служил Штудман? В гостинице «Регина»? — спросил он. Деньги я буду переводить по телеграфу ежедневно… Какая приблизительно сумма, вам нужна?
— Ах, всего две-три тысячи марок — только для начала.
Он не дрогнул.
— Вы ведь знаете, я не вправе продавать инвентарь: это запрещено, и я буду за это отвечать. Вы подпишете, фрау фон Праквиц, заявление, которое оградит меня перед вашим отцом. Вы подтвердите, что все незаконные сделки по продаже инвентаря совершены по вашему распоряжению. Вы, далее, подтвердите, что осведомлены о неточном, а иногда и неправильном ведении книг, словом, что все мои мероприятия одобрены вами…
— Вы очень суровы со мной, господин Пагель, — сказала она. — Вы не доверяете мне?
— Ваш отец, может статься, скажет, что я утаил какую-нибудь сумму, что я подделал счета. Ах, боже мой! — крикнул он нетерпеливо. — Что тут толковать? Да, я не доверяю вам! Я потерял всякое доверие.
— Напишите текст заявления, — сказала она.
Пока он отстукивал письмо, фрау Эва ходила взад и вперед, машинально брала в руки то одно, то другое, — с задумчивым видом и без единой мысли в голове, чувствуя облегчение от того, что он исполнил ее желание.
Вдруг она что-то вспомнила, она быстро оборачивается к нему, хочет что-то сказать…
Но при виде его холодного, сумрачного лица слова застревают у нее в горле. Она садится за письменный стол, макает перо в чернила, она тоже пишет, на ее лице улыбка. Что-то пришло ей в голову, нет, она не эгоистка, он не прав — ведь вот она думает о нем, хочет порадовать его.
Бегло прочитывает она заявление, которое только что находила унизительным, равнодушно подписывает. Затем берет в руки записку…
— Вот, господин Пагель, у меня есть еще кое-что для вас. Вы видите, я ничего не забываю. Когда это возможно, я все устраиваю. До свиданья, господин Пагель, и еще раз большое спасибо. — Она уходит.
Пагель стоит посреди конторы. Он уставился на дверь, он уставился на зажатую в руке бумажку. Никогда еще, кажется ему, не выглядел он таким дураком.
В руках у него расписка, на которой фрау Эва фон Праквиц, от имени своего и мужа, подтверждает, что она получила у господина Вольфганга Пагеля заем в две тысячи золотых марок, две тысячи — прописью…
Пагель кажется себе очень смешным.
Он в бешенстве комкает расписку.
Но нет, он одумался. Тщательно расправил ее. Сложил вместе с заявлением и спрятал в бумажник.
«Ценные сувениры!» — ухмыляется Пагель.
Он почти весел.
5. ТЕШОВ-МЛАДШИЙ РАЗМЕЧТАЛСЯ О НАСЛЕДСТВЕ
Все, что юный Вольфганг Пагель завоевал за четыре месяца своей работы в Нейлоэ, — дружба, уважение, — все было сразу утрачено за четыре последних дня его пребывания в имении. Долго еще после этого говорили в деревне, что Мейер-губан на что был подлец, но такого бессовестного пройдохи, такого ханжи, как Пагель, свет не видывал! Ни стыда, ни совести! Ворует у всех на глазах — среди бела дня!
— Не буду обращать на них внимания, — решительно сказал Пагель вечером второго дня Аманде Бакс. — Но порой я готов сквозь землю провалиться! Этот старый болван Ковалевский, узнав, что я продал мяснику пять свиней, набрался духу сказать мне: «Это вы напрасно, господин Пагель. А если узнает жандарм!»
— Уж вы бы лучше хорошенько разозлились, дали бы себе волю, — сказала Аманда Бакс. — Чего ради вы были всегда добры и хороши ко всем? Вот вам и спасибо. Меня тоже сегодня спрашивали в деревне, как мне спится в постели барыни, и не стану ли я носить барынины платья…
— Ну и люди! — с досадой бранится Пагель. — Всякой пакости готовы поверить. Ни минуты не сомневаются, что я продаю скот за спиной хозяев и кладу деньги в карман и что мы только по своей наглости, без разрешения, водворились на вилле. Неужели ни одному дьяволу не придет в голову, что так распорядились хозяева? Не могу же я совать каждой бабе под нос свою доверенность!
— А они и не хотят иначе судить, — с торжеством сказала Аманда. Подумаешь, невидаль какая — делать то, что велела вам барыня. Но если вы среди бела дня растаскали половину имения — это находка, тут есть о чем посудачить.
— Аманда! Аманда! — возвестил Пагель тоном пророка. — Чует мое сердце! Когда приедет старик тайный советник и посмотрит, что я здесь натворил, а его супруга послушает, что болтают бабы — не знаю, защитит ли меня бумажонка, которая лежит в моем портфеле. Боюсь, очень боюсь: придется мне вылететь из Нейлоэ под шум и гром бури.
— Да ведь вам не привыкать стать, господин Пагель, — утешала его Аманда. — Ведь всегда так бывало, что больше всех доставалось вам, — что же тут нового!
— Правильно, — сказал Пагель. — Она сегодня дважды звонила из Берлина, почему нет денег? Говорит, что ей нужно еще много денег. Похоже, что она собирается купить магазин — хотя мне трудно представить себе магазин, где за прилавком будет стоять фрау фон Праквиц. Ох, придется мне набраться духу и спустить завтра молотилку — а уж что тогда скажет старик…
Но сначала на сцену выступил некто другой: на следующий день в усадьбу прикатил на велосипеде местный жандарм, как раз в тот момент, когда продавалась молотилка. Он был так смущенно вежлив и фальшиво любезен, что насчет его дурных намерений нечего было и сомневаться. Пагелю поэтому нетрудно было вести себя с ним очень нелюбезно, и когда жандарм, наконец, попросил, чтобы ему сообщили адрес хозяев, Пагель наотрез отказался.
— Господа фон Праквиц не желают, чтобы их беспокоили. Я — их доверенное лицо. Если вы имеете, что сказать им — скажите мне.
Но этого-то жандарм и не хотел. Так он и уехал ни с чем, очень рассерженный.
А Пагель продолжал торговаться с покупателем молотилки. Хороша была машина, но торговец, приехавший из ближайшего городка, не хотел дать за нее и десятой части ее действительной стоимости: во-первых, денег в те дни было совсем мало, во-вторых, во всей округе уже толковали, что какой-то сумасшедший разбазаривает Нейлоэ.