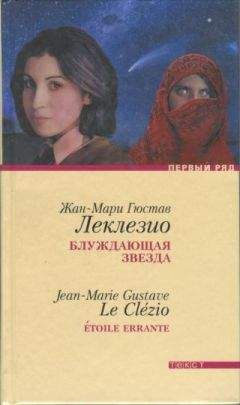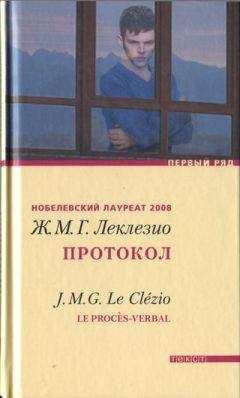Занимается день. Впервые я могу подумать о том, что будет. Совсем скоро итальянский корабль придет сюда, в порт Алон, который я начинаю видеть. Мне кажется, будто меня уже качает море. Море станет нашей дорогой к святому городу, ветер унесет нас к порогу пустыни. Никогда я не говорила с отцом о Боге. Он не хотел этих разговоров. Он умел посмотреть таким особым взглядом, бесхитростным и уверенным, что отпадала охота задавать вопросы. А потом, когда его не стало, это больше не имело значения. Дядя Симон Рубен сказал однажды маме, мол, не пора ли мне поучиться, он имел в виду религию, чтобы я наверстала упущенное. Мама отказывалась, не то чтобы наотрез, но говорила «там будет видно», потому что отец этого не хотел. Всему свое время, говорила она, когда я подрасту, сама сделаю выбор. Мама, как и отец, всегда считала, что религия — это личный выбор каждого. Она даже не хотела, чтобы меня называли еврейским именем, и звала меня Элен — это ведь тоже мое имя, его дала мне она. Но я себя называю своим настоя щим именем, Эстер, и не хочу другого. Отец однажды рассказал мне про Эстер, Эсфирь, которую еще звали Хадассой, и у нее не было ни отца, ни матери; она стала женой царя Артаксеркса и осмелилась прийти незваной в тронный зал, чтобы попросить пощады для своего народа. И Симон Рубен тоже рассказывал мне о ней, а еще он говорил, что имя Бога нельзя ни произносить, ни писать, и поэтому мне всегда казалось, что это имя похоже на море, оно так же огромно и его никогда не познать до конца. Что ж, теперь я знаю, что так и есть. Я должна переплыть море и по ту сторону, в Эрец Исраэле, в Иерусалиме, найти эту силу. Никогда бы я не подумала, что она так велика, никогда бы не подумала, что такой порог мне придется переступить. От усталости, от холода я не могу думать ни о чем другом. Только об этой нескончаемой ночи, которая теперь заканчивается серым рассветом, о шелесте ветра в гигантских соснах, о шуме моря, бьющегося о мысы и скалы. И я наконец засыпаю, прижавшись к маме, под шорох нашего плаща, который трепещет на ветру, точно парус, под непрестанный плеск волн, лижущих песчаный пляж. Я засыпаю, и мне снится, что, когда я открою глаза, корабль будет здесь, на мерцающей глади моря.
* * *
Я сижу под скалой, в расселине, у большого сухого дерева. Караулю. Передо мной море такой ослепительной синевы, что больно глазам. Порывы ветра проносятся надо мной. Я слышу, как он шумит в листве кустов и ветках сосен, и этот влажный шелест смешивается с плеском волн о белые скалы. Едва проснувшись сегодня утром, я побежала в порт Алон, на мыс, туда, где лучше видно море.
Солнце уже жжет мне лицо, жжет глаза. Море, несказанно прекрасное, неспешно катит откуда-то с края света свои волны. Они бьются о берег, и я слушаю глубокий шум воды. Я больше ни о чем не думаю. Смотрю, без устали всматриваюсь в четкую линию горизонта, в пенящееся под ветром море, в чистое небо. Я хочу увидеть итальянский корабль, хочу быть первой, когда его форштевень, рассекая волны, надвинется прямо на нас. Если я не буду ждать здесь, на мысу у входа в Алонскую бухту, мне кажется, что корабль не придет вовсе. Если я хоть на секунду отведу взгляд, он не заметит нас и поплывет себе дальше, к Марселю.
Он вот-вот приплывет, я чувствую. Море не может быть таким прекрасным, небо таким безоблачным просто так, без причины.
Я хочу первой крикнуть всем, что корабль приплыл. Маме я ничего не сказала, она осталась на пляже, закутанная в американскую плащ-палатку. Никто не пошел со мной. Я — дозорный, у меня зоркий, острый глаз, как у индейцев в книгах Гюстава Эмара. Как бы мне хотелось, чтобы со мной сейчас был отец! Я думаю о нем, представляю, как он сидит рядом на скале, всматриваясь в мерцающее море, и мое сердце бьется чаще, плывет голова и мутится в глазах. А может быть, это от голода и усталости. Я так давно толком не спала и не ела! Вот-вот сорвусь и упаду — вперед, в темное, манящее море. Помню, так же неотрывно я смотрела на окутанную облаками гору, где должен был появиться отец. Тогда, в Фестионе, я каждый день уходила из пансиона, из нашей комнатушки, и шла по деревенской улице вверх, туда, откуда была видна вся долина, и горы, и дорога, стояла там и смотрела, так долго, так отчаянно, что, казалось, мой взгляд пробурит в горной породе дыру.
Но мне нельзя отвлекаться. Я — дозорный. Все остальные там, за скалами, в Алонской бухте, сидят на пляже и ждут. Мама, когда я уходила сегодня, только сжала мою руку и ничего не сказала. Утреннее солнце приободрило ее. Она улыбалась.
Я хочу увидеть итальянский корабль. Хочу, чтобы он приплыл. Огромное, бескрайнее море вскипает светом. Яростный ветер рвет клочья с пенных гребней, швыряет их назад. Высокие валы катятся откуда-то с края света, бьются о белые скалы, теснятся в узкой горловине Алонской гавани. Вода вихрится в бухте, пенится в воронках водоворотов. Волны лижут песчаный берег.
Рядом со мной ствол упавшего дерева, белый и гладкий, как кость. Мне нравится это дерево. Кажется, будто я знала его всегда. Оно волшебное, благодаря ему ничего плохого с нами не случится. По обкатанному морем стволу, между корней бегают жучки и букашки. Ветер приносит запах сосен, такой живой от солнечного тепла. Летит ветер, кружится море. Я знаю, мы на краю света, на рубеже, откуда уже не вернуться назад. Если корабль не приплывет сейчас, наверно, мы все умрем.
Черные города, поезда, перроны, страх, война — все осталось позади. Когда мы шли прошлой ночью через холмы, под дождем, при слабом свете электрического фонарика — мы переступали первый порог. Вот почему было так трудно, так тяжело. Лес гигантских сосен в Алонской бухте, шум ветра и хруст ветвей, холод, ливень и, наконец, — эта полуразрушенная стена, под которой мы притулились, точно заплутавшие в бурю животные.
Я открываю глаза, море и свет прожигают до самого нутра, но мне это нравится. Я дышу, я свободна. Меня уже подхватывает ветер, несут волны. Путь начался.
Весь этот день я бродила по мысу, среди скал. Море все время рядом со мной, линия горизонта прочерчена в моей голове. По-прежнему дует ветер, пригибает стволы деревьев, колышет кусты. В ложбинах растет остролист, вьюнок-сассапариль. Ближе к морю — вереск, весь в крошечных розовых цветочках с черной серединкой. От запахов, света, ветра кружится голова. Плещет море.
На пляже Алонской бухты сидят рядком эмигранты, что-то едят. Я присела ненадолго возле мамы, не сводя глаз с черты, отделяющей небо от моря, между двумя скалистыми мысами. Глаза жжет, лицо горит огнем. На губах вкус соли. Я наспех поела наших припасов, которые мама достала из чемодана, — ломоть очень белого американского хлеба, кусок сыра, яблоко. Напилась лимонаду прямо из бутылки. И опять ушла к скалам, на свое место дозорного рядом с сухим деревом.
Море бурное, в пенных барашках. Оно без конца меняет цвет. Когда небо вновь затягивают облака, оно становится серым, почти черным, фиолетовым, кажется расплавленным порфиром.
Теперь мне холодно. Я сижу, съежившись, за выступом скалы. А что делают остальные? Ждут ли еще? Если мы перестанем верить, тогда, боюсь, корабль развернется, бросит сражаться с ветром, уплывет обратно в Италию. У меня колотится сердце, в горле сухо, я знаю, именно сейчас решается наша жизнь, потому что «Сетте фрателли» — не просто корабль. С ним придет наша судьба.
Пастушок пришел проведать меня в моем укрытии. Уже вечер. Сквозь прореху в облаках рвется злой пурпурный свет, словно смешанный с пеплом. Пастушок подходит, садится на ствол, что-то говорит мне. Сначала я не слушаю, я слишком устала, мне не до болтовни. Жжет под веками, из глаз и из носа течет. Пастушок думает, что я плачу, что я пала духом, он придвигается ближе и обнимает меня за плечи. Это в первый раз — я чувствую его тепло, вижу, как поблескивают на свету волоски бороды. Мне вспоминается Тристан, запах его тела после купанья в реке. Это очень давнее воспоминание, из какой-то другой жизни. Словно легкий озноб, пробегающий по телу. А Пастушок все говорит, рассказывает про свою жизнь, про отца и мать, которых немцы отправили в лагерь Дранси, — они так и не вернулись. Он называет мне свое имя, потом говорит про Иерусалим, что он будет делать там, где учиться, может быть, даже в Америке, он хочет быть врачом. Потом он берет меня за руку, и мы вместе идем в порт, к нашей каменной беседке, где ждут все. Когда я снова сажусь рядом с мамой, уже почти темно.
Погода к ночи опять испортилась. Звезд не видно за тучами. Холодно, дует ветер, дождь льет как из ведра. Мы сидим, закутавшись в плащ дяди Симона Рубена, под полуразрушенной стеной. Скрипят гигантские сосны. Я чувствую пустоту внутри, куда-то проваливаюсь. Как же теперь корабль нас найдет, если нет больше дозорного?
Будит меня Пастушок. Склонился надо мной, теребит за плечо, что-то говорит, а я такая сонная, что он силой поднимает меня. Мама тоже на ногах. Пастушок показывает на море: там, вдали, у входа в Алонскую бухту, движется силуэт, едва различимый в сером свете занимающегося дня. Это «Сетте фрателли».