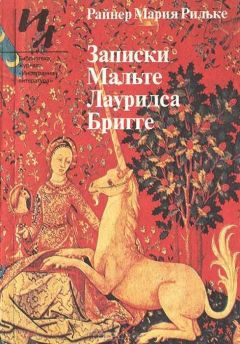Этот Стен проводил воскресные вечера у себя в комнате за чтением Сведенборга[55], и никто из челяди не смел к нему сунуться, ибо считалось, что он вызывает духов. Семейство Стена давно было с духами накоротке, а уж ему самому на роду было написано с ними спознаться. Что-то явилось его матушке в ту самую ночь, когда она им разрешилась. У него были круглые, большие глаза, и взгляд всегда упирался в пространство за спиной того, с кем он говорил. Отец Абелоны часто у него справлялся о духах, как справляются о здоровье присных.
— Ну, приходили они, Стен? — спрашивал он благодушно. — Хорошо, когда они приходят.
Несколько дней диктовка шла своим чередом. Но вот Абелона запнулась на Эккернферде[56]. Это было название, она его никогда не слышала. Граф, который давно искал повода прервать не поспевавшие за его памятью записи, выказал недовольство.
— Она не может, видите ли, написать, — буркнул он. — А другие не смогут прочесть. Да полно — увидят ли они, о чем я толкую? — продолжал он сердито, вонзаясь в Абелону взглядом. — Увидят ли этого Сен-Жермена? Сен-Жермена — сказали мы? Зачеркни! Пиши: маркиз де Бельмар[57].
Абелона зачеркивала и писала. Но граф так зачастил, что за ним невозможно было угнаться.
— Он терпеть не мог детей, этот прекрасный Бельмар, но меня он усадил к себе на колени, я был совсем маленький, и мне пришло в голову укусить его за бриллиантовую пуговицу. Его это развеселило. Он засмеялся, поднял за подбородок мое лицо, и мы смотрели глаза в глаза. «У тебя великолепные зубы, — сказал он, — предприимчивые зубы…» А я разглядывал его глаза. Я много повидал на своем веку. Я много разных глаз видел, поверь мне, но таких — больше никогда. Им ни на что не надо было смотреть; все было в них. Слыхала ты о Венеции? Хорошо. Так вот, я тебе говорю, эти глаза видели Венецию в этой комнате, будто она тут, как мой стол. Я однажды сидел в уголке и слушал, как он рассказывает отцу про Персию, — иной раз мне кажется, будто руки мои до сих пор хранят ее запах. Отец очень высоко его ставил, а его светлость ландграф был ему чем-то вроде ученика. Но кое-кому, разумеется, не нравилось, что он признает лишь то прошедшее, которое носит в себе. Они не могли взять в толк, что разный хлам идет к делу только тогда, когда ты с ним родился.
Книги — пустое! — бушевал граф, взывая к стенам. — Кровь — вот что важно, по крови надо учиться читать. Чудесные истории, странные картины были у этого Бельмара в крови; он отворял ее, когда хотел, и все было исписано, ни одного пустого листа. И когда он вдруг запирался и листал одиноко страницы, он нападал на пассажи об алхимии, о драгоценных каменьях, о красках. Почему бы им там не быть? Где-то им надо же обретаться…
Он бы уживался с правдой, этот человек, будь он один. Но не так-то легко оставаться наедине с этой дамой; а у него доставало вкуса не приглашать к себе других, находясь в ее обществе; она не должна была вступать в беседу — такого не допускал его восточный обычай.
«Adieu, madame, — говорил он ей правдиво. — До другого раза. Быть может, как-нибудь, годков через тысячу, мы будем покрепче и нам не станут мешать». «Ваша красота, madame, лишь вступает в пору расцвета», — говорил он, и то не была пустая учтивость.
И с тем он уходил и разбивал для людей зоологический сад, нечто вроде Jardin d'Acclimatation[58], где цвели разные виды лжи, доселе неслыханной в наших широтах, где зрели в теплицах преувеличенья и в небольших Figuerie[59] спели фальшивые тайны. И отовсюду стекались к нему гости, а он расхаживал с бриллиантовыми пряжками на туфлях и был всецело к их услугам.
Неосновательное существование, да? А ведь это было рыцарство по отношению к даме, и по милости своих взглядов он великолепнейше сохранялся.
Старик давно уже не обращался к Абелоне, он про нее забыл. Он метался как безумный по кабинету и бросал на Стена пронзительные взоры, словно понуждая его превратиться в того, о ком он думал. Стен, однако, ни в кого не превращался.
— Его надо было видеть, — сам не свой продолжал граф. — Одно время он был зрим, хоть письма, во многих городах им получаемые, никому не были адресованы — на конверте стоял только город, ничего больше. Но я видел его.
Собою он не был хорош, — граф издал странно-поспешный смешок. — Не был он и то, что называют достойным, значительным; вокруг всегда роились люди более достойные. Он был богат, но богатством случайным, неверным. Он был высок, но не блистал красотою осанки. Разумеется, я не могу сказать, обладал ли он обширным умом, тем-то, тем-то и прочим, чему придаем мы цену, — но он был.
Граф встал, весь дрожа, и что-то странно очертил руками в воздухе, будто поместил и утвердил в пространстве.
И тут он заметил Абелону.
— Видела ты его? — спросил он повелительно. И вдруг схватил серебряный канделябр и посветил ей прямо в глаза.
И Абелона вспоминала, что она видела его.
В последующие дни Абелона неизменно призывалась в кабинет, и диктовка продолжалась уже более спокойно.
Граф восстанавливал по всевозможным документам самые ранние свои воспоминания об окружении Бернсторфа, в котором отец его играл не последнюю роль. Абелона так приноровилась к особенностям своей работы, что всякий, увидев вместе эту парочку, принял бы их сотрудничество за подлинную близость.
Однажды, когда Абелона собралась уже уходить, старик к ней приблизился так, будто держал для нее сюрприз в сложенных за спиною руках.
— Завтра мы будем писать о Юлии Ревентлов[60], - сказал он, смакуя каждое слово. — Она была святая.
Наверное, Абелона на него глянула с недоверием.
— Да, да, — настойчиво повторил он. — Это еще бывает. Все бывает, графиня Абель.
Он взял Абелону за руки и распахнул ее, как книгу.
— У нее были стигматы, — сказал он. — Тут и тут. — И быстро, жестко ткнул холодным пальцем в обе ее ладони.
Что такое стигматы, Абелона не знала. Ничего, после разъяснится, думала она. Ей не терпелось услышать про святую, которую отец видел своими глазами. Но ее не призвали ни назавтра, ни в дальнейшем.
— С тех пор у вас часто поминали графиню Ревентлов, — поспешно заключила Абелона, когда я ее упрашивал продолжать. Она выглядела усталой; она уверяла, что все перезабыла уже. «Но я до сих пор иногда чувствую эти места», — сказала она, и она улыбнулась и почти с любопытством заглянула в свои пустые ладони.
Еще до смерти моего отца все переменилось. Ульсгор перешел в чужие руки. Отец умер в городе, в квартире, показавшейся мне враждебной и странной. Я был тогда уже за границей и опоздал.
Гроб стоял в выходившей во двор комнате, меж двумя рядами высоких свечей. Цветочный запах был неразборчив, как наперебой звучащие голоса. Красивое лицо с закрытыми глазами будто что-то вежливо силилось вспомнить. Его облачили в егермейстерский мундир, но из каких-то соображений заменили белой голубую ленту. Руки не были сложены, косо лежали одна поверх другой, казались ненастоящими и лишились выраженья. Мне тотчас рассказали, что он мучился ужасно, — по нему это не было видно. Черты были прибраны, как мебель в гостевой после отъезда гостей. Мне почудилось, что я уже видывал его мертвым, — так все мне было знакомо.
Новой была лишь обстановка, и неприятно новой. Ново было, что то и дело заходила Сиверсен и не делала ничего. Сиверсен постарела. Потом меня звали завтракать. Несколько раз мне напоминали о завтраке. Завтракать в этот день мне решительно не хотелось. Я не замечал, что меня выпроваживают из комнаты; наконец Сиверсен дала мне понять, что в доме доктора. Я не мог взять в толк — зачем. «Что-то еще надо сделать», — сказала Сиверсен и настойчиво на меня посмотрела красными глазами. Потом два господина с известной поспешностью вошли в комнату: это были доктора. Первый нагибал, как для боданья, будто снабженную рогами, голову с тем, чтоб разглядеть поверх очков: Сиверсен, затем меня.
Он поклонился со студенческой церемонностью.
— Господин егермейстер выражал еще одно желание, — заговорил он с порога; и опять ощущалось, насколько ему некогда. Я кое-как принудил его направить взгляд сквозь очки. Коллега его был высокий, тонкокожий, светловолосый юнец; я подумал, что его легко вогнать в краску. Затем наступила пауза. Казалось странным, что у егермейстера могли еще быть желания.
Я снова невольно глянул на прекрасный, соразмерный лик. И тотчас я понял, что он хотел уверенности. Он всегда ее жаждал. Теперь настал его срок ее обрести.
— Вы явились для перфорации сердца. Прошу вас.
Я поклонился и отступил. Оба доктора склонились одновременно и тотчас стали совещаться о своей работе. Уже кто-то убрал свечи. Но вот старший сделал по направлению ко мне несколько шажков. Затем, избавляя себя от труда преодолевать все расстояние, он простер руку и злобно меня оглядел.