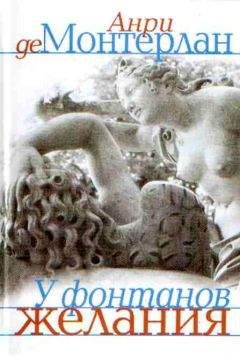Самое ужасное — это разрушения, которые производит желание, когда оно покидает нас. Люди, страны, искусства и цивилизации уходят в тень, словно пейзаж, когда солнце прячется в облака. Рубенс и его время, Феокрит и его время — что осталось от их былой власти над нашим воображением, если нам уже не хочется населить нашу жизнь пышнотелыми нимфами одного или пастушками другого? Как нам любить божественный лик греческой статуи, если теперь мы с большой долей определенности знаем, что человек, послуживший ей моделью, вызвал бы у нас лишь разочарование? Отправимся ли мы в Персию, если нам точно известно, что счастье не обитает там? Чем нас может взволновать Средневековье, если страсть к завоеваниям оставляет нас равнодушными? Предположим, Юлий II[23] вызывал у меня зависть. Но что произошло в день, когда я перестал желать того же, к чему стремились его желания? Теперь этот старикашка, снедаемый вожделением, кажется мне каким-то диковинным, экзотическим животным, и в моей зависти к нему есть оттенок сочувствия: так завидуют ребенку, чья душа поражает свежестью восприятия. Да, конечно, у него была мертвая хватка. Но если его трофеи вызывают у меня лишь снисходительную улыбку?
Но прошлое, по крайней мере, ушло в небытие, и это его большое преимущество. Теперь мы можем лишь догадываться, что в нем было несовершенного. Например:
в Карфагене недавно открыли для обозрения древние пунические дворцы; но мне не нужны раскопки, я и так знаю, что здесь происходило: здесь любили и были несчастливы;
в Бардо[24] есть примечательная коллекция античных медалей; глядя на них, я вдруг понимаю: а ведь все эти цари так и не смогли толком насладиться своим могуществом;
в Дугге[25], созерцая римские развалины, я в мечтах представляю себе общество, которому неведома такая вещь, как, например, целомудрие; разумеется, подобное возможно лишь в мечтах.
Но наше настоящее! Я задуваю светочи вокруг себя. Задуваю Италию. Задуваю Северную Африку. Вчера это были надежды, сиявшие на моем пути. Сейчас это звездный дождь: они падают, гаснут и оставляют меня во мраке. Так-то, дорогой мой, будете знать, как воплощать грезы в действительность. Beati non possidentes[26].
Неаполь, Мосул, Багдад, Шираз — это мертвые сирены, источенные червями: море желания, в котором они плескались, отступило, оставив их на песчаном дне.
Эти мои чувства свидетельствуют о неких притязаниях на избранность, банальных, вероятно, даже вульгарных. Но нельзя же упустить такую приятную возможность — быть как все.
То, что я испытываю подобные чувства через сто лет после романтизма, убедительнее всех дежурных славословий доказывает, до какой степени романтизм не устарел. Все сказанное здесь могло быть написано сто, или пятьдесят, или двадцать пять лет назад, и в том же самом стиле. Ничего нового вокруг нас: все вытерлось до основы, точно старый ковер. А какие изменения внесла война? Никаких, отвечу я; после войны здесь, как и во всех остальных сферах жизни, не изменилось ничего. Что? В «Погребальной песни» я выразил иное мнение? Пусть так, но ведь тогда я, как и все мои товарищи, воображал, будто война вдохнула в меня новую душу, и считал, что это наделяет меня новыми правами.
* * *
По-моему, самое интересное в образе Сатаны у Виньи, — то, что он стал «печальней прежнего», когда желание его было утолено. Сатана совратил Элоа, «вовлек ее во грех». Она спрашивает: «Теперь ты хотя бы станешь счастливее? Ты доволен?» — «Я печальней прежнего». — «Так кто же ты?» — «Сатана».
С ужасом гляжу я на самого себя. На все, что я разрушил, дабы обрести счастье, — ибо это моя единственная забота, — и на мою неспособность быть счастливым. На все замыслы, которые я оставляю неосуществленными. На всех врагов, которых нажил. На время, которое упустил. На все неверные пути, которые выбираю в жизни.
Теперь я понимаю, почему солнце называют Владыкой Тления. Стоит ему пригреть сильнее, — и одолевает такая жажда небытия… Небытие — на него вся наша надежда. «Как? Опять надежда? Видно, это никогда не кончится!»
* * *
У Светония есть один эпизод, который я не могу читать без волнения. Когда Тиберий почувствовал, что близок его смертный час, он снял перстень, как будто желая передать его кому-то, а затем, помедлив, снова надел на палец.
Ни одному писателю не удалось с такой пронзительной силой описать безмерное духовное одиночество. Кому умирающий может передать свой перстень? Кто этого достоин? Найдется ли тут хотя бы человек, который обманывал его не так бессовестно, как остальные? Кому вручить перстень, не оказавшись совсем уж в дураках?
Мгновение он раздумывает, вспоминает то одного, то другого. Но ему не на ком остановить выбор. И он опять надевает перстень на палец. Он остается наедине с собой, до самого конца.
Духовное одиночество. Но и физическое тоже. Светоний говорит: «Он зовет рабов, но никто не откликается».
Я знаю, почему эти подробности так запали мне в душу. Чуть не сказал: «Мне это так знакомо…» Хотя, собственно, почему не сказать? Действительно, все это, вплоть до близости смерти, было мне знакомо, пережито на собственном опыте. И мне еще предстоит пережить это вновь.
Я чувствую узы братства, связывающие меня со всеми, кто это пережил.
* * *
У тебя были задор, энергия, смелость, но ты не смог поставить их на службу какому-либо делу, ибо не верил ни в одно из дел, которым посвящают себя люди.
А сегодня ты чувствуешь пресыщенность, безразличие, желание уйти от житейской суеты, — одним словом, у тебя есть все добродетели аскета, но ты не можешь служить ни одному богу, ибо не веришь ни в каких богов.
Усугубить бесполезность мира собственной бесполезностью. И жить так, сколько получится, наигрывая свою нехитрую песенку.
Одно только утешает. Не обстоятельства и не люди побеждают меня. Вселенная, общество тут ни при чем. Признавая свое поражение, я могу смотреть на них как равный. Мне было дано все. Мне все сходило с рук. Я мог все, я до сих пор еще все могу. Ибо я сам оказался чересчур разборчивым (а не зачтется ли мне однажды все то, что я отверг?), и побежден лишь самим собой. Nemo contra deum nisi deus ipse[27]. Во мне, и только во мне одном, как и вчера, как и всегда, кроется то, чего я боюсь, и то, что еще дает мне надежду. Поэтому не жалости я достоин, но зависти, ибо ничто, исходящее от меня, не может причинить мне зло, и собственный мой пепел питает меня.
Быть может, кто-то подумает, что я сочиняю высокопарные фразы. Но это вырвалось у меня, как крик.
* * *
— Прежде твоя песнь звала к жизни, а теперь мы слышим от тебя песнь смерти!
— «Есть время насаждать, и время вырывать посаженное», — говорит Екклизиаст.
Тунис, Фес, 1927
Протей — морское божество, способное принимать облик зверя, воды, дерева и пр. Протей был мудр и, кроме дара превращения, обладал также даром пророчества. (Здесь и далее примеч. перев.)
«Олимпийцы», «Утренняя смена», «Сон» — ранние произведения А. де Монтерлана.
Антиох Эпифан (215–163 до н. э.) — сирийский царь из династии Селевкидов, третий сын Антиоха Великого. Одним из важнейших событий его недолгого правления была попытка эллинизировать Иерусалим, что привело к восстанию, известному как Маккавейская война.
Франклин Бенджамин (1706–1790) — американский ученый, политический деятель и дипломат, один из авторов Декларации независимости 1776 года. Оставил довольно значительное литературное наследие.
Верцингеторикс — вождь кельтского племени арвернов, возглавивший крупное восстание в Галлии против Цезаря. Попав в плен, Верцингеторикс в 46 г. до н. э. был в триумфальной процессии доставлен в Рим и казнен.
Гелиогабал (Элагабал) — прозвище Марка Аврелия Антонина, римского императора с 218 по 222 г. Будучи верховным жрецом бога солнца Элагабала, пытался культ этого божества сделать государственным. Двор Гелиогабала утопал в роскоши, что вызывало всеобщее недовольство и привело к дворцовому заговору, во время которого император и его мать были убиты преторианцами.
Порфирий (ок. 233, Тир — ок. 300, Рим) — греческий философ, ученик и биограф Плотина, последователь неоплатонизма.
Лестница Иакова — см. Бытие, 28:12–16.
Баррес Морис (1861–1923) — французский писатель и политический деятель. Нонконформист и яростный индивидуалист, он в зрелые годы стал пропагандировать ультранационалистические взгляды.