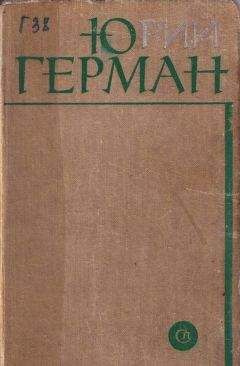Васька, раскачиваясь на стуле, сказал, что живет он чудно, но что есть неувязки.
— Не качайся, — сказал Лапшин, — в глазах рябит.
Ему было очень интересно, что за неувязки у Васьки, но он не спрашивал его и молча пил отвратительный портвейн.
— Чудная штука! — говорил Васька, — Верно, Иван Михайлович? Ароматная, легкая, Я слышал, будто английские лорды эту штуку тяпают по рюмочке после обеда. А у нас бутылка семь рублей, довольно дешево!
— Вряд ли тяпают, — сказал Лапшин, — уж тогда я на них удивился бы. Политура — и то лучше.
Они погрызли миндальное печенье. Васька снял, наконец фуражку, побродил по комнате, повздыхал и спросил, что Ханин.
— Да прыгает, — сказал Лапшин. — Ты меня давеча утром уже об этом спрашивал…
— Влип парень! — сказал Васька. — Подумать только, в живот схватил ранение!
— Ну? — спросил Лапшин.
— Да я так просто, — сказал Васька. — Чего вы нукаете?
Лапшин улыбнулся, сунул за щеку два миндальных печенья и взял в руки описание Бородинского сражения. Васька еще покачался на стуле и пошел в гости к Ашкенази. Вернувшись, он сказал, что все в порядке, но что вредный старик спит и в рецепте ему отказал.
— В каком рецепте? — спросил Лапшин, не отрываясь от книги.
— Да нервы у меня, — сказал Васька. — Организм расшатался.
— Поди к черту! — басом сказал Лапшин. — Нервы у него…
Зачитавшись, Лапшин не заметил, что Васька разулся и лег на кровать Ханина. Он лежал, заложив руки под голову и задрав ноги в вишневых носках. Лицо у него было грустное, он глядел в потолок и вздыхал.
— Чего, Вася? — спросил Лапшин. — Худо, брат, тебе?
— Худо, Иван Михайлович, — виновато сказал Васька. — Верите ли, пропадаю!
— Ну уж и пропадаешь! — сказал Лапшин.
— Да заели, — крикнул Васька. — На котлеты меня рубят.
Быстро усевшись на кровати Ханина и вытянув вперед голову, он стал рассказывать, как жена и теща подсмеиваются над ним за то, что он помогает сестре, как его, Ваську Окошкина, заставляют по утрам есть овсяную кашу, и как они водили его в гости к тещиному брату — служителю культа, и как этот служитель культа ткнул Ваське в лицо руку, чтобы Васька поцеловал, и что из этого вышло.
— Чистое приспособленчество! — скорбно говорил Васька. — Такую мимикрию развели под цвет природы, диву даешься, Иван Михайлович. Ну не поверите, что делают! И вещи покупают, и все тянут, и все мучаются, и все кряхтят, и зачем, к чему — сами не знают. И едят как-нибудь и мне в управление ни-ни! Булочку дадут с собой, а там, говорят, чаю. Чтоб я пропал!
— Ошибся в человеке? — спросил Лапшин.
— А хрен его знает! — сказал Васька. — И он стал прыгать по комнате, натягивая на себя сапоги.
— Главное дело что, — говорил он, обувшись, — главное дело — это как они меня терзают. Ну все им не так! Вилку держу — не так, консервы доел — не так, на соседа поглядел — не так. И всем я плох. Вычитала теща, что уполномоченные бывают сами из жуликов, и ко мне с подходцем: «А вы сами не жулик бывший?» — Сами вы, говорю, знаете кто?
— Кто? — спросил Лапшин.
— Ладно, — сказал Васька, — спите, Иван Михайлович! Говорить — только нервы портить.
Он доел печенье, допил портвейн, еще раз со скорбью оглядел комнату и уже из двери сказал:
— Поверите, гимнастерку на работе чернилами замами — боюсь домой идти. Что с ребенком сделали, а?
— Они тебя вышколят, — из ниши сказала Патрикеевна, — шелковый будешь.
Васька махнул рукой и ушел.
Видеть Адашову Лапшину не хотелось, и потому у Ханина он бывал в те часы, когда в театре шли репетиции, и когда встретить Наташу он не мог. Но во всем том, что окружало Ханина — в мелочах, в пустяках, — Лапшин чувствовал ее присутствие: то на тумбочке лежала книжка, о которой она, в свое время, говорила Лапшину, то в вазочке, знакомой ему, был налит домашний компот, то на изголовье кровати висел шарфик, принадлежавший ей… И самое ее имя Ханин вспоминал куда чаще, чем раньше, и совсем иначе, чем раньше, — с плохо скрываемым раздражением и с какой-то постной миной при этом. И раздражение и постное лицо были Лапшину оскорбительны. Он сопел носом, крякал и старался не глядеть на Ханина.
Ханин поправлялся, и обычно они сиживали в парке клиники на старой дубовой скамье возле кирпичной стены. Носил Ханин табачного цвета застиранный, с клеймом, халат и шлепанцы, а голову повязывал от солнца носовым платком с четырьмя узелками по углам. Безделье мучило его больше, чем рана, он говорил Лапшину дерзости, бранил врачей, кричал на санитарок, которые его обслуживали. Все ему не нравилось: кормили плохо, постель была неудобная, ординатор — дубина и самодовольный дурак, вчера в палате перегорела лампочка, и два часа не шел монтер…
— Вредный ты какой сделался! — сказал ему как-то Лапшин. — Жужжишь, ворчишь…
— Я не могу, когда на меня молятся! — крикнул Ханин. — Я от нее на луну уеду.
От того, что он сказал, ему стало стыдно. Он отвернулся, щелкнул тростью по скамье и добавил мягко:
— Улетит мой летчик без меня. Что тогда будет?
— Конец света будет, — сказал Лапшин.
В другой раз Ханин стал жаловаться на то, что ничто так не портит мужчину, как любовь женщины.
— Я тебя не понимаю, — сказал Лапшин.
— Нашего брата нельзя любить безрассудно, — говорил Ханин, — нельзя относиться ко мне так, будто я чудо из чудес. Живу я здесь долго, капризничаю, а она мне утверждает, что я самый лучший, прелестный, умный, талантливый. И что бы я ни сказал — все хорошо, умно, замечательно… Ты слушаешь?
— Да, — сказал Лапшин, — но мне пора ехать.
— Посиди! — сказал Ханин. — Одним словом, мне это немножко поднадоело.
— Не стоит об этом говорить, — сказал Лапшин, вставая со скамьи.
Ханин оперся на трость и тоже встал.
— Погоди, погоди, — сказал он, — погоди, Иван Михайлович!
— Я эти твои разговоры отношу за счет болезни, — сказал Лапшин, — они на тебя не похожи.
Они медленно шли по узкой дорожке парка: Ханин впереди, Лапшин сзади.
— Ты попробуй прижимать рану ладонью, — говорил Лапшин. — Мне это когда-то очень помогало. Свободнее ходил.
— Привези мне марок почтовых, — сказал Ханин, — буду хоть письма писать, что ли. Ладно?
— Ладно, — сказал Лапшин. — Привет Наташе.
Он пожал руку Ханину, по Ханин не выпустил сразу его руки из своей.
— Что? — спросил Лапшин.
— Почему же ты мне сразу не сказал? — говорил он, качая своей птичьей головой. — Сказал бы сразу — и вся недолга. Я только сейчас понял.
— Будь здоров! — сказал Лапшин и выдернул руку. Лицо у него было спокойное, и глаза смотрели прямо. — Так, значит, марок?
— Марок-то марок, — сказал Ханин, — да не в них дело.
— Если бы ты не болел так долго, — сказал Лапшин с неудовольствием, — то язык бы у тебя был покороче. Иди, ложись!
Козырнув, он зашагал по дорожке, сдвинул назад кобуру и исчез в калитке. В автомобиле он думал о том, что тяжело будет, когда Ханин опять переедет к нему, и что было бы отлично, если бы Ханин переехал из клиники не к нему, а к себе. Но от этих мыслей ему сделалось неловко, и он тут же твердо решил, что обязательно перевезет Ханина сам, и что Ханин обязательно будет жить у него, и что все остальное — вздор. Решив так, он почувствовал облегчение и повеселел, а потом стал думать про Ваську Окошкипа и еще больше повеселел.
В управлении его вызвали к начальнику, и начальник предложил ему идти первого в отпуск.
— Да нет, не пойду, — сказал Лапшин. — Пускай уж мой Ханин поправится. Неловко как-то. Попозже пойду.
На лестнице он встретил Ваську Окошкина.
— Ну что, Вася? — спросил Лапшин. — Как поживаешь?
— Ничего, товарищ начальник! — вяло сказал Окошкин. — А вы как?
— И я ничего.
— Ну что ж, — сказал Окошкин, — надо бежать.
— Беги, Вася, — сказал Лапшин, — заходи в гости.
Через несколько дней Лапшин перевез к себе Ханина, и комната его, благодаря постоянному теперь присутствию Наташи, резко изменилась. Больше не пахло сапогами, буфет Наташа передвинула, люстру сняла и вместо нее повесила большой синий абажур. И в двух банках от варенья теперь постоянно стояли цветы. Патрикеевне все это не правилось. Наташу она не уважала и, считая, что Ханин «закрутил», все свое внимание перенесла на Лапшина. Несколько дней подряд она варила его любимые свежие щи и покупала ему язык, которого Ханин не ел. Наташе она говорила «вы» и за глаза называла «эта» и «барыня».
А у Лапшина теперь совсем не было своего дома.
Сидеть с Наташей и Ханиным ему не хотелось, и он часто ночевал на диванчике в кабинете. Потом поехал в Карелию, потом в Мурманск, потом еще раз в Мурманск. Жил он там в «Арктике», в плохом номере, слушал патефон соседа и гулял белыми ночами по дощатым тротуарам и по скалистым переулкам странного северного города. С собой у него была книга об истории Парижской коммуны, он понемногу читал и с каждым часом чувствовал себя все свободнее и свободнее от того, что так мучило его раньше. Глядя белой ночью в окно на смутные очертания далеких рыжевато-серых гор, и на воду, и на застывшие в ней корабли, и на розовое, точно дымное, небо, он думал о том, как наступит осень и как он изменит свою жизнь, как начнет заниматься, как уплотнит дни и как два раза в пятидневку обязательно будет преподавать в своей бригаде. И его охватывало беспокойство, он вынимал блокнот и, потирая макушку ладонью, распределял часы, дни и месяцы, зачеркивал и вновь распределял, стараясь составить весь план так, чтобы он был и гибок, и точен, и выполним, и широк.