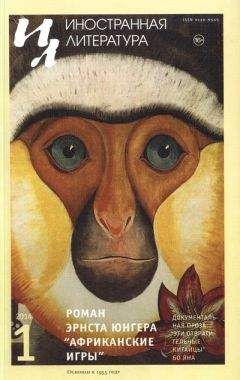Кроме подобных проделок, которыми он очень гордился, Официант обладал обширным опытом, касающимся тех дел, какими занимаются горничные, и тех, какие творятся в плохо освещенных задних номерах маленьких гостиниц. Он был слугой всех продажных и ненасытных душ, угодником чувственных желаний и поглотителем сомнительных чаевых. Поэтому среди нас он чувствовал себя неуютно и высматривал себе местечко помощника по столовой или офицерского денщика.
Приятель, которого он себе подыскал, соответствовал ему, как зуботычина соответствует зубу, но «зуботычина» эта была беззлобной. Его звали то ли Хоке, то ли Хуке, и сразу при моем появлении он поприветствовал меня как земляка, а затем начал расспрашивать, процветают ли еще у нас ярмарки с балаганами, где он когда-то учинял свои безобразия. Такие молодчики вылупливаются порой в почтенных семьях ремесленников или чиновников, и ни папа, ни мама не могут себе объяснить, откуда они взялись. Может быть, в час их зачатия Венера стояла в плохой констелляции; такое ощущение, во всяком случае, возникало, когда ты смотрел в глаза нашему Хуке: в голову приходила мысль, что ему, собственно, следовало бы стать не мужчиной, а беспутной девкой.
Его маленькие глазки постоянно лукаво моргали как бы набрякшими от сна веками, и щеки тоже всегда казались припухшими. Такая припухлость, правда, объяснялась кулачными ударами, на которые Официант не скупился, когда приятели выпивали вместе; но она была настолько к лицу Хуке, что хотелось, повторяя Ламарка, сказать: в данном случае приобретенное качество превратилось в физиогномическое. Хуке был невероятно хвастлив, без всяких на то оснований, и любил крепкие выражения, вроде: «Ты, придурок!» (за что его частенько поколачивали). Когда мы с ним познакомились, он только что вернулся с губы, где сидел за самовольную отлучку, а когда я хотел с ним попрощаться, его как раз опять должны были туда отвести — за то, что капралу Давиду, давшему ему какое-то поручение, он сказал: «Идите-ка лучше в ризницу!», как обычно говорят в Баварии. Эта фраза, если разобраться, не противоречит правилам хорошего тона, и здешние старослужащие умели произносить ее так, что она звучала почти как «Слушаюсь!» Но Хуке умудрился выбрать столь неудачную интонацию, что даже Давид, обычно не слишком щепетильный в вопросах субординации, впал в ярость и добился для него десяти суток ареста. Я подошел как раз в ту минуту, когда его приятель, Официант, прятал ему в кальсоны запас сигарет, и услышал, как Хуке объявил в своей фанфаронской манере:
— Эти десять дней я, конечно, оттрублю, но потом меня здесь никто больше не увидит!
Я тоже — впрочем, сам того не желая — однажды поставил его в затруднительное положение, навлекшее на него настоящий ураган ударов; но об этом как-нибудь в другой раз.
Думаю, стоит упомянуть еще и голландцев — двух разномастных рысаков в одной упряжке, чьи койки тоже стояли в нашем подразделении. Один из них был нечеловечески высок и тощ: он казался бы настоящим гигантом, если бы сильное искривление позвоночника не заставляло его склонять голову долу. Так что он всегда смотрел на остальных сверху вниз, как меланхоличное чудище с водостока готического собора. Хуке, спавший с ним рядом, называл его ветхим мешком, наполненным рогами оленей, а Официант часто подстраивал ему разные каверзы. Хотя все воспринимали его как комическую фигуру, на меня он нагонял жуть — потому что напоминал привидения, какие можно увидеть в полутьме старых запыленных коридоров, и ему очень подошел бы серый островерхий колпак. По словам его товарища, он долго служил на Борнео, и я предполагал, что этот молчаливый и скучный, как китайский истукан, субъект хранит в себе диковинные воспоминания. Хотя со стороны казалось, что ему совершенно без разницы, в какой точке земли он находится, он время от времени «брал кредит», как здесь называли побег. И в одиночестве, совершая по ночам огромные переходы, устремлялся к испанской границе — но всякий раз, из-за очередного невезения, его хватали и водворяли обратно.
Его земляк тоже относился к классу кобольдов — только к другому подвиду, который приспособлен к воде и у нас на севере представлен фигурой корабельного домового. Стоило посмотреть на этого человека, как сразу вспоминалось море: он был маленького роста, по виду напоминал паука, имел водянисто-зеленые глаза, рыжий вихор и кудлатую, тоже рыжую, бороду. Он был гораздо подвижнее и смышленнее, чем другой голландец, и я охотно беседовал с ним, когда он, попыхивая глиняной трубочкой, сидел на койке, словно на моряцком рундуке. Он обладал чувством собственного достоинства, какое свойственно старшим подмастерьям, да ему и было на вид лет сорок. По его рассказам складывалось впечатление, что в своих делах он до педантизма аккуратен; в Голландии у него хранилось в банке несколько сотен гульденов. Иногда он после обстоятельных приготовлений садился за стол и с напряженным усердием, как ребенок, писал письмо невесте, о которой охотно отзывался как о доброй и верной девушке, вот уже десять лет ждущей его. План его жизни состоял в том, чтобы накопить определенную сумму для покупки рыбачьей барки, а потом жениться. Когда я слышал, как спокойно он рассуждает об этом, и вспоминал, что здесь он получает четыре пфеннига в день, мне становилось грустно — как если бы я увидел муравья, намеревающегося осилить неподъемную ношу.
Последним из обитателей этого зала мое внимание привлек бледный, темноволосый поляк — мужчина лет тридцати, с лицом тонкой лепки, но уже несколько расплывшимся. Ходил слух, что поляка привела сюда неприятность с растратой кассовой наличности; и он действительно производил впечатление человека, который не может устоять перед соблазном денег и у которого даже крупные суммы буквально утекают сквозь пальцы. Он ни с кем не общался, но временами получал письма, на которые с жадностью набрасывался. Он, похоже, очень страдал здесь: конечно, ему больше бы подошло мягкое сидение красивых беговых дрожек, чем место вроде нашего, где нужно маршировать и тащить на себе поклажу. Кроме того, у него были слабые легкие; после длинной пробежки, с которой здесь начиналось утро, он еще долго не мог отдышаться и откашляться.
Он спал на кровати, обращенной к моей изножьем. Поскольку в переполненном зале днем не было возможности побыть одному, я ночью охотно приподнимался на постели и, бодрствуя, предавался своим грезам в окружении спящих. Обычно очень скоро я начинал различать шуршание и вздохи, доносящиеся с кровати напротив. Загоралась спичка, и я видел, как раскаленный кончик сигареты вспыхивает в такт глубоким, поспешным затяжкам, — словно крошечный маяк в темноте.
18
Итак, я все же попал в землю обетованную. Правда, муштра, которой подвергал меня ревностный служака Полюс, поначалу почти не оставляла времени, чтобы оглядеться. Через окно взгляд падал на дальнюю скальную гряду, которая в прозрачном воздухе мерцала красными и желтыми переливами, а по мере того как сгущались сумерки, приобретала все более глубокий фиолетовый цвет. Обширная равнина, отделяющая эту гряду от города, была сухой, скудной и усеянной бесчисленными камнями. Я находил, что здесь переизбыток песка и слишком мало деревьев. Все-таки странно, что человек с жадным нетерпением стремится в подобные места, будто они притягивают магнитом…
Оказаться в чужом городе — это всегда было для меня мучительным и волшебным счастьем, какое испытываешь, читая старые книги. Города с церквями, дворцами и многолюдными кварталами: каждый из них — наш большой дом, куда нас доставляет скорый поезд, словно мы перенеслись туда в сапогах-скороходах. И в этих чужих городах мы в известной мере ощущаем более размашистые и сильные колебания времени, мощную тяжесть столетий. Сколько людей жило или побывало здесь… и ко всем им ты испытываешь чувство братской близости, как в просторном отцовском доме. Бывают и города, где время остановилось: с головокружительным чувством ты проваливаешься в воздушную яму, попадая в более ранние слои. Такое потрясение я испытал совсем недавно, в сутолоке на Via Toledo[25], — там у меня словно пелена с глаз упала и я на миг почувствовал себя человеком такого типа, какой после 1789 года совершенно исчез.
Произведения архитектуры тоже обладают колоссальной силой тяжести; бывают мгновения, когда мы понимаем, что этот язык камней обращен не только к человеку. Я в детстве не мог смотреть на некоторые книги без страха — скажем, на «Monumenti antichi» Пиранези[26] (толстенные фолианты, хранившиеся в библиотеке моего отца). Другие памятники, напротив, дышат радостью и жизнью: я, например, был растроган, когда во Флоренции узнал, что тамошний народ очень любит большого каменного Нептуна, которого называет Бьянконе [27], — подобные симпатии свидетельствуют о внутреннем благородстве.