Ознакомительная версия.
— О! Придите ко мне, мои ангелы, придите, вы помогли мне, вы не покинули меня.
— Нет, Арман, — сказала Леони, — не называйте нас так, среди нас есть только один ангел, Каролина.
Это она, найдя нас больными на том несчастном постоялом дворе в Буа-Манде, вернула нам мужество, она выходила нас и спасла от смерти, она, слышите ли вы, едва завершив этот тяжкий труд и зная, какая опасность угрожает вам и как вам можно помочь, не колебалась между всеобщим презрением и справедливостью, тогда как я, Арман, устав от бед, уже начала сомневаться и не знала, должна ли я бросить вызов общественному мнению и обвинить моего убийцу в убийстве мужа ради оправдания любовника. Она же решительно обвинила преступника, чтобы спасти невиновного, она нашла в себе столько мужества и добродетели, что выдержала насмешки даже самих судей, которые утверждали, что она мстит мужу за то, что он бросил ее, и весь свет подхватил эту клевету, но она не обращала на нее внимания; она же добилась от Жака Брюно, чтобы он сказал правду; она потратила все свои силы, чтобы спасти человека, который, казалось, никогда не сможет отблагодарить ее, так как тогда ваш рассудок изменил вам, Арман, но она добивалась справедливости для человека, впавшего в беспамятство, и после того, как она смыла с вас пятно позора, она вырвала вас и из лап смерти, это она проводила с вами все ночи, все дни, следя за каждым вашим движением, ловя каждое ваше слово, каждый вздох.
— Вы были рядом со мной, — тихо возразила Каролина, — поддерживая в этом тяжком испытании, и Господь протянул мне руку, чтобы идти до конца и спасти…
— Меня! — вскричал Луицци, вспомнив о выборе, который он должен сделать. — Меня! Поздно! Я погиб!
— Нет, брат мой, — возразила Каролина, — даже если правда, как я слышала не один раз, что нашей семье предначертаны горе и преступления, даже если правда, как говорила мне Леони, что тебя преследует ужасный рок…
— Да! Это правда, — горячо подтвердил Луицци, — он всегда тяготел надо мной, я хотел найти опору в самых разных вещах, но все они разбивались в моих руках, в моих грязных и порочных руках, я хотел знать правду, но правда представала предо мной лишь в виде уродливой и отталкивающей картины, я протягивал руку всем, кого встречал на своем пути, но руки счастливцев лишь ранили руку, которую я им протягивал, и рука моя лишь добивала тех несчастных, которым я хотел прийти на помощь. Сестра моя, сестра моя, я проклят!
— Арман, — изумилась Каролина, — так ты никогда не протягивал руки свои к Господу?
— К Господу? — повторил барон.
Но пока колени его сгибались, а руки складывались для молитвы, зазвонили часы, и громовой голос изрек:
— Час твоего выбора миновал, барон, следуй за мной!
И тут, как будто пламя вулкана пожрало его за один миг, замок Ронкероль исчез, а на его месте осталась лишь глубокая пропасть, которую крестьяне прозвали адовой воронкой.
Говорят, в то же мгновение видели, как с края этой бездны поднялись ввысь три белые фигуры: они долетели до неба, и одна из них, приблизившись к престолу Господню, просила за тех, что остались позади, и когда Всевышний показал, что они могут войти, дева пречистая, дева грешная и жена неверная{508} преклонили колени и вознесли молитвы свои за душу барона Франсуа-Армана де Луицци.
КонецН. Т. Пахсарьян
ФРЕДЕРИК СУЛЬЕ — «ХОРОШИЙ СРЕДНИЙ ПИСАТЕЛЬ»
Тут повар пришел: с ним с час толковала; там почитала «Mémoires du Diable»… ax, какой приятный автор Сулье! как мило описывает!
И. А. Гончаров. Обыкновенная история.
Марья Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходится без скандалу…; что это даже в тоне, хотя скандалы высшего общества, по ее понятиям, должны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные, что-нибудь вроде «Монте-Кристо» или «Mémoires du Diable».
Ф. М. Достоевский. Дядюшкин сон.
В 1842 году Бенжамен Рубо в сатирической литографии «Большая дорога в будущее» запечатлел шествие самых заядлых и популярных «романтиков» своего времени: возглавляет это шествие одетый драгуном В. Гюго, несущий лозунг «Уродливое — это прекрасное». За ним следуют Т. Готье, Ф. Вей, П. Фуше, Э. Сю, А. Дюма, Ф. Сулье, Л. Гозлан, К. Делавинь, Ж. Мери, А. Карр, А. де Виньи. Конечно, такое смешение, с нашей точки зрения, разных по масштабу фигур в одной литературной команде сделано человеком, явно иронически относившимся к романтизму, и можно было бы подумать, что тесное соседство, например, Гюго и некоего П. Фуше «организовано» для насмешки над главой романтиков. Но серьезных почитателей таланта тех, кто современному читателю, даже специалисту-филологу, вряд ли знаком, было в XIX веке также немало. Современники Гюго и Бальзака, Стендаля и Мериме, оценивая литературную продукцию своего времени, то и дело ставили рядом имена, для нас несовместимые[13], читали и почитали произведения, в бессмертии которых и их авторов не сомневались, хотя, как показало время, ошибались в своих прогнозах. Многие из этих знаменитостей давно канули в Лету, не оставив на первый взгляд хоть сколько-нибудь заметного следа в истории литературы. Однако «странный» список имен тех, кого изобразил Б. Рубо, демонстрирует не только, и даже не столько, то, что читатели XIX века заблуждались в своих литературных пристрастиях и имели небезукоризненный вкус, сколько открывает нам неизученный пласт литературной жизни позапрошлого столетия. Поневоле воспринимающаяся нами в историко-литературной перспективе как устоявшаяся, систематизированная, иерархизированная, литература 19-го столетия и систематизировала и иерархизировала саму себя иначе, чем это делаем мы. Литография дает возможность понять, как разнообразно и одновременно тесно взаимодействуют, сплетаются, пересекаются творческие поиски тех, кто в исторической перспективе оказывается разведен по разным ценностно-иерархическим ступеням литературы, отнесен к разным литературным направлениям, к различным пластам культуры. Обращение к литературной повседневности прошлой эпохи может внести существенные коррективы в наше представление о романтизме и реализме XIX века, об их соотношении и внутреннем содержании.
РОМАНТИЗМ И МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В XIX ВЕКЕ
Романтизм сегодня воспринимается нами как «литературная классика», бесконечно далекая от расхожего, «массового чтива». Однако тут важно подойти к проблеме исторически. Ведь в XIX веке и сам романтизм был частью не прошлого, а текущего литературного процесса, и массовая беллетристика обладала в известной степени иными, чем теперь, чертами, и сама историческая «норма вкуса» (Д. Юм) имела свою специфику. С одной стороны, «именно романтики… отделили от элитарной литературы массовую и конституировали ее как литературу»[14], с другой — статус «элитарного» и «массового» был в тот период еще весьма неустоявшимся и подвижным, как, впрочем, подвижен он и теперь по отношению к текущей литературе. То, что перешло со временем в категорию «литературных памятников», являлось для своего времени актуальной литературой, которую сегодня порой считают объектом, принципиально неподходящим для историко-филологического изучения[15], служило предметом злободневной эстетической полемики, то и дело демонстрировавшей, с точки зрения исследователя XX века, аксиологические «провалы критики»[16]. Во всяком случае, изменение историко-литературного образа XIX века, как и трансформацию в 20-м столетии некоторых важных литературных понятий, следует иметь в виду при анализе проблемы «романтического» и «массового» в эпоху романтизма.
Современный читатель постоянно обращается или невольно приобщается к разнообразным формам массовой литературы: эпоха книжной индустрии, широта книжного рынка тому способствуют уже сами по себе. К тому же мы живем в эпоху после «восстания масс» (Ортега-и-Гассет), и вкусы, взгляды массы многое определяют не только в издательском деле, но и в установках писателей. Сегодняшний критик убежден: «‹…› нет никакого смысла производить искусство, если его не выставлять и не продавать ‹…›»[17]. Споры о том, использует ли постмодернизм массовую литературу как объект пародии или включает ее элементы со всей серьезностью, по-видимому, неразрешимы однозначно, ибо здесь воистину действует принцип «и то, и другое» — принцип, рождающийся из нового — и для отечественной, и для зарубежной культуры — отношения к ценностной иерархии, к миссии, или, скорее, функции, художника, к социокультурной роли литературы, к самому акту чтения и письма.
С другой стороны, понятие «массовая литература» приобрело в современном литературоведении, истории литературы характер негативной эстетической оценки (какие бы коррективы не вносили в этот термин отечественные и зарубежные социологи[18]): процесс аксиологизации термина неизбежно связан с восприятием «массового» современными философами, психологами, социологами, а вслед за ними — и литературоведами как особого качества (включающего в себя психологию толпы, вкус посредственного человека и т. д.)[19]. Отталкивание от «положительного» в «массовом» в постсоветской России тем сильнее, чем яснее осознается, что «марксизм», напротив, рассматривал «массу», точнее «(народные) массы», как сакрально-мифологическую категорию[20]. Призывы «отказаться от прямолинейно-негативного истолкования понятия „массовая литература“»[21] остаются актуальными для нашего литературоведения как раз в силу трудной реализации такого отказа в специфических социокультурных условиях России.
Ознакомительная версия.

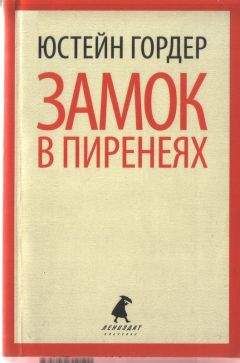


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
