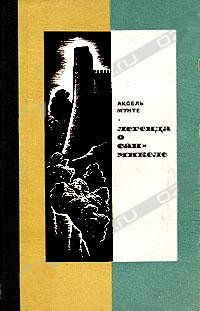Насколько легче было бы и им и мне, если бы их агония не была такой долгой и ужасной! Час за часом, день за днем они лежали холодные, словно трупы, с остекленевшими глазами и открытым ртом — как будто мертвые, но еще живые. Сохраняли ли они еще способность чувствовать и понимать? Счастливы были те, кто мог проглотить чайную ложку опия, которую торопливо вливал им в рот какой-нибудь доброволец Белого Креста. Во всяком случае, у них был шанс уснуть последним сном до прихода солдат и полупьяной похоронной команды, являвшейся ночью, чтобы сбросить их в огромную яму на Холерном поле. Скольких сбросили туда еще живыми? Я полагаю — сотни и сотни. Умирающие и покойники с виду были совершенно одинаковы, и даже я не всегда мог различить их. А времени терять было нельзя, трупы валялись в домах десятками, и строжайший приказ запрещал откладывать погребение до утра.
Когда эпидемия достигла наивысшей точки, мне уже не приходилось жаловаться на то, что агония длится слишком долго. Люди стали падать на улице, точно сраженные молнией, — их подбирали полицейские, везли в больницу, и через несколько часов они умирали там. Извозчик, который утром бойко отвез меня в тюрьму Гранателло около Портичи с тем, чтобы вечером доставить обратно в Неаполь, лежал мертвым в пролетке, когда я вышел к нему. В Портичи никто не захотел помочь мне вынести его из пролетки, все отказывались даже прикоснуться к нему. Мне пришлось сесть на козлы и отвезти его в Неаполь. Там повторилась та же история, и в конце концов я должен был сам доставить его на холерное кладбище.
Иногда к вечеру я так уставал, что бросался на кровать не раздеваясь и даже не умывшись. Да какой смысл был мыться этой грязной водой, какой толк был дезинфицироваться, когда все кругом было заражено: пища, которую я ел, вода, которую я пил, кровать, на которой я спал, воздух, которым я дышал! Часто меня охватывал такой ужас, что я не решался ложиться спать, страшась одиночества. Тогда я выбегал на улицу и проводил остаток ночи в какой-нибудь церкви.
Любимым моим ночным убежищем была старинная церковь Санта-Мария-дель-Кармине, и нигде я не спал так сладко, как на скамье в левом ее приделе, когда я боялся вернуться домой. Я мог выбрать для ночлега любой неаполитанский храм. В сотнях церквей и часовен всю ночь пылали вотивные свечи, всю ночь их заполняли молящиеся. Статуи мадонн и святых не знали покоя ни днем ни ночью, обходя заболевших своего прихода. Но им приходилось плохо, если они отваживались появиться в чужом приходе. Даже весьма почитаемая Мадонна Холерная, которая спасла город от холеры в 1834 году, была беспощадно освистана в Бьянки-Нуови.
Но я боялся не только холеры. С начала и до конца я жил в смертельном страхе перед крысами. В трущобах крысы чувствовали себя куда уютнее и вольготнее, чем обитавшие там бедняки. Надо отдать им справедливость: в общем это были безобидные и мирные крысы, не слишком досаждавшие живым и усердно выполнявшие обязанности мусорщиков, возложенные исключительно на них еще со времен Римской империи. Они были ручные, как кошки, и почти такого же размера.
Однажды в подвале, больше похожем на подземную пещеру, я увидел на тюфяке из гнилой соломы полуголую древнюю старуху, тощую как скелет. Ослепшая, разбитая параличом, она пролежала на этом тюфяке много лет. На замусоренном полу кружком расположился десяток гигантских крыс, пожиравших какие-то гнусные отбросы. Они невозмутимо взглянули на меня и продолжали завтракать. Старуха протянула костлявую руку и просипела: «Хлеба, хлеба!»
Однако когда санитарная служба сделала бесполезную попытку дезинфицировать клоаки, положение изменилось — и мой страх превратился в ужас. Миллионы крыс, которые спокойно жили в клоаках со времени римлян, хлынули в город. Обезумевшие от серных паров и карболовой кислоты, они метались по трущобам как бешеные. Никогда я не видел таких крыс: лысые, с удивительно длинными красными хвостами, налитыми кровью глазами и острыми, черными зубами, длинными, как у хорька. Если такую крысу ударяли палкой, она в ярости вцеплялась в палку мертвой бульдожьей хваткой. Ни одного животного я в жизни не боялся так, как этих бешеных крыс. Они терроризировали весь Бacco-Порто. В первый же день их вторжения в больницу Пеллегрини привели более ста искусанных мужчин, женщин и детей. Несколько младенцев были съедены в буквальном смысле слова. Я никогда не забуду одну ночь в трущобах Виколо-делла-Дукесса. Темный подвал освещала только крохотная лампада перед статуей мадонны. Отец семьи умер за два дня до этого, но его труп все еще лежал в каморке, укрытый лохмотьями, — близкие сумели спрятать его от похоронной команды, как это часто делалось в трущобах. Я сидел на полу рядом с больной девочкой и палкой отгонял крыс. Она уже совсем похолодела, но оставалась в сознании. И все время я слышал, как крысы грызут труп ее отца. Это так действовало мне на нервы, что я поставил мертвеца стоймя в углу, как часы. Крысы тут же принялись грызть его ноги. Я был не в состоянии вынести этого и вне себя от ужаса бросился бежать.
Аптека Сан-Дженнаро также была моим любимым прибежищем, когда я не мог оставаться один. Она была открыта днем и ночью. Дон Бартоло был всегда на ногах и без отдыха составлял разнообразные микстуры и чудотворные снадобья из порошков, хранившихся в фаянсовых байках XVII века с латинскими названиями, большинство которых было мне неизвестно. На низком шкафчике красовались две-три большие стеклянные колбы с заспиртованными змеями и человеческим эмбрионом. Перед изображением святого Януария, покровителя Неаполя, горела лампада, а с потолка среди паутины свисала набальзамированная двухголовая кошка. Специальностью аптеки была знаменитая противохолерная микстура дона Бартоло. На одной стороне бутыли был изображен святой Януарий, а на другой — череп с надписью: «Смерть холере!» Рецепт был семейным секретом, передававшимся от отца к сыну со времени эпидемии 1834 года, когда это средство при содействии святого Януария спасло город. Другое специальное средство хранилось в таинственной бутыли с этикеткой в виде сердца, пронзенного стрелой амура. Это был любовный напиток, тоже семейный секрет, пользовавшийся, как я слышал, большим спросом. Клиентами дона Бартоло были главным образом обитатели соседних монастырей. У прилавка всегда сидели священники и монахи, оживленно обсуждали события дня и новые чудеса того или иного святого, а также сравнивали чудотворную силу различных мадонн. Бог упоминался очень редко, а сын божий — никогда. Однажды я отважился сказать старому монашку, с которым был особенно дружен, что меня удивляет, почему в их спорах не слышно имя Христа. Старичок охотно сообщил мне, что, по его мнению, не будь Христос сыном мадонны, его и не почитали бы вовсе. Насколько ему было известно, Христос никогда никого не спасал от холеры. Его пресвятая матерь все глаза из-за него выплакала, а как он ей отплатил? «Жено, — сказал он ей, — что мне до тебя?»
— Percio ha finito male, — вот почему он так плохо кончил!
С приближением субботы имена святых и мадонн упоминались в разговорах все реже. Вечером в пятницу посетители аптеки, отчаянно жестикулируя, обсуждали завтрашнюю лотерею.
— Тридцать четыре, шестьдесят девять, сорок три, семнадцать! — звучало со всех сторон.
Дону Антонио приснилось, что его тетушка вдруг скончалась и оставила ему пять тысяч лир. Внезапная смерть — 49; деньги — 70. Дон Онорато советовался с горбуном на виа Форчелла и твердо знал свои счастливые номера — 9, 39, 20. Кошка дона Бартоло родила ночью семерых котят — номера 7, 16, 64. Дон Дионизно только что прочел в газете, что разбойник пырнул ножом цирюльника. Цирюльник — 21, нож — 41. Дон Паскуале узнал счастливый номер от кладбищенского сторожа, которому назвал его голос из могилы — 48.
В аптеке Сан-Дженнаро я познакомился с доктором Виллари. Дон Бартоло рассказал мне, что он приехал в Неаполь два года назад и был помощником старого доктора Риспу, известного врача, услугами которого пользовались все монастыри этой части города. После смерти патрона молодой помощник унаследовал его практику.
Мне были приятны наши встречи, так как я сразу почувствовал к нему большое расположение. Он был удивительно красив, любезен, сдержан и совсем не похож на неаполитанца. Он был родом из Абруццы. От него я впервые услышал о монастыре Сепольте-Вяве — Заживо Погребенных, мрачном старом здании на углу улицы с маленькими готическими окнами и тяжелыми чугунными воротами, тихом и угрюмом, как могила.
Правда ли, что монахинь вносили в эти ворота в гробу и в саване и до смерти они уже не переступали порога монастыря?
Да, совершенно верно, — монахиням запрещено всякое общение с внешним миром. Когда его вызывают туда, что случается очень редко, впереди него по коридору идет старая монахиня и звонит в колокольчик, чтобы сестры успели затвориться в кельях.