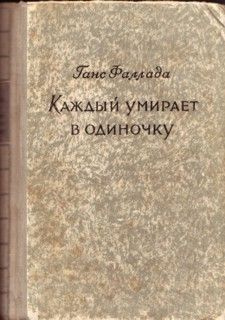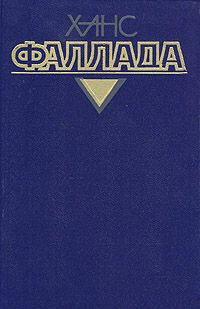— Сейчас не до этого. Главное — обеспечить армию тем, что ей нужно!
— Что это с вашей Сивкой, вахмистр? — снова обратился к нему офицер. — Молодая кобылка, а нет в ней жизни. Не больна?
— Никак нет, господин обер-лейтенант! Месяца полтора назад ее обогнал автомобиль. Испугалась — и так в себя и не приходит. Лучшая моя лошадь.
– Автомобиль? Дело дрянь! У тех коней вид получше. Сивку отставить, не годна!
Да, Сивку забраковали. А также и нутреца. И одну за другой еще трех лошадей. Они вроде бы и ничего, да из возраста вышли. Форсированного марша не выдержат.
— Так точно, господин обер-лейтенант!
И Хакендалю вручают ордер, — ордер на весьма значительную сумму. Эти лошади, работавшие на Хакендаля, источник его благосостояния, в переводе на наличные составляют много денег. Вернее, и много и мало — число, выражающееся пятизначной цифрой, но вместе с тем — дело всей жизни Хакендаля, все, что он создал, над чем трудился, выраженное в цифре, начертанной на клочке бумаги.
Он смотрит на листок и думает о том, как он каждую лошадь берег и холил, как, прежде чем решиться на покупку, десять — двадцать раз бегал туда и обратно, договаривался, торговался. Он думает о том, как он наседал на кучеров, чтобы лошадей не загоняли, и как, притаясь за афишной тумбой, частенько проверял, кормят и поят ли их кучера на стоянках. Лошади, конюшня, извозчичий двор стали содержанием его жизни, с тех пор как из нее ушла армия. И сейчас так пусто на душе…
— Гофман, доставите лошадей домой. Мы с Гейнцем немного пройдемся.
— Это можно, господин Хакендаль!
— Да сразу же и запрягайте. Сегодня извозчиков не хватает, надо подумать о том, чтобы кое-что и заработать.
— И Сивку, господин Хакендаль?
— Да и Сивку. На Сивке поедешь сам.
— Сделаем, господин Хакендаль!
— Пошли, Малыш, немного прогуляться. Я сегодня что-то не того…
— Да, отец!
— Зря этот солдат взял гнедого на короткий повод. У жеребца чувствительные губы.
Впрочем, уже все равно, это больше не его лошади — они принадлежат отечеству.
8
Они прошли дальше по Франкфуртер-аллее — дома стояли все реже, а там потянулись сады и огороды. И вот уже перед ними первое настоящее поле — рожь.
— Погляди, Малыш, рожь, ее начали косить, да так и бросили. А ведь она в самой поре. Верно, тоже война помешала. Кто же теперь соберет урожай?
Он оглядел раскинувшиеся нивы, повсюду было тихо и пустынно. Никто не работал, и только по шоссейным дорогам торопливо шагали и ехали люди.
— Скоро, Малыш, настанет время, про какое я нынче толковал Рабаузе: женщины возьмутся за мужские дела.
— Значит, и мать?
— Да и мать, разумеется.
— Полно тебе, отец…
— А что же мать, — нужно будет, и она справится. Я сегодня же после обеда пойду запишусь добровольцем.
— Ты уже стар, отец! И сердце у тебя никуда.
— Сердце у меня в порядке!
— Ну что ты, отец! Ты иногда синий-синий делаешься.
— Ладно! Явлюсь, и меня наверняка возьмут. Вот увидишь!
— Но…
— Я говорю — возьмут. А ты знай помалкивай!
— Тогда и меня возьмут!
— Сказано — помалкивай!
Некоторое время они шли молча, потом свернули на проселок; перед ними лежала высокая железнодорожная насыпь.
— Что это за дорога, отец?
— В Штраусберг, Малыш! А там и дальше на восток, на Познань и, стало быть, на Россию.
— А вот и поезд, отец!
— Вижу…
Из Берлина, влекомый двумя паровозами, шел состав— преимущественно вагоны для скота — с открытыми дверями. Из вагонов выглядывали лошадиные головы, в дверях стояли солдаты в защитной форме, а на открытых платформах, к восторгу Малыша, выстроились пушки. То был первый поезд, уходивший на фронт у них на глазах, и отец с Малышом были одинаково взволнованы.
— Отец, отец, они едут на войну! Против русских! Урра! — кричал Малыш. — Взгрейте их как следует!
Солдаты смеялись и махали им в ответ. И Хакендаль кричал ура и махал солдатам. Вагон за вагоном…
— Сорок один, сорок два… — считал Малыш. — А это что было, отец? Черная штука с трубой? Такая потешная… Она поди тоже стреляет?
— Это — полевая кухня, Гейнц! По-солдатски — гуляшная пушка. Стреляет обедами.
— Сорок четыре, сорок пять, — с увлечением считал Гейнц. — Сорок семь вагонов, отец, не считая тендера.
— Малыш! — окликнул Хакендаль шепотом.
— Что, отец?
— Потише! Взгляни, Малыш, направо, вон туда, в кусты… Но только незаметно, чтоб не вызвать подозрение… Видишь человека в лозняке?
— Вижу!
— А теперь отведи глаза, видишь, на нас уставился. Притворись, будто башмак завязываешь. И зачем это он забрался в кусты, один? Похоже, прячется.
Малыш для виду занялся башмаком, а сам все на кусты поглядывает.
— Отец, он сунул что-то в карман — белое, вроде бумаги. может, поезд себе записал?..
— А для чего ему записывать поезд? — ворчливо отозвался Хакендаль.
— А как же? Ведь это же солдаты, лошади, пушки! А вдруг он — шпион, отец?
— Спокойнее, сынок, главное, без крику. Опять на нас пялится. Что это он все сюда поглядывает? Какое ему до нас дело!
— Его, должно быть, совесть грызет! Похоже, он и есть шпион!
— Давай спокойно рассудим. Что бы ему делать и таком глухом месте? Ведь если б мы случайно тут не оказались…
— Отец, отец, а сейчас он свистит!.. Нет ли у него поблизости сообщников?
— Что ж, и это возможно!
— Давай, отец, подойдем и спросим, что он здесь потерял. Если побоится смотреть нам в глаза, мы его сразу же арестуем.
— А как это мы его арестуем? Возьмет да убежит!
— Я небось шибче бегаю!
— Одному тебе не справиться. А мне его не догнать — из-за сердца…
— Вот видишь, отец, я и говорю — у тебя сердце!
— Потише! Он, должно быть, заметил, что мы следим, и хочет смыться. Пошли за ним!
— Пошли, отец!
— Не так быстро, Малыш! Никогда не следует пороть горячку. Пусть думает, что мы гуляем. А то учует погоню…
— Выходит на шоссе!
— Ну, ясно. Хочет в толпе затеряться.
— Ничего, мы его догоним, отец!
— Опять на нас обернулся. Поди коленки дрожат от страха!
Отец и сын оба загорелись — молодость и старость равно пылали огнем. Оба неотступно следовали за подозрительным субъектом и так старались себя не выдать, что это бросилось бы в глаза даже бесхитростному наблюдателю. Они показывали друг другу жаворонка в небесной синеве, а сами глаз не сводили с того субъекта. Когда он замедлял шаг, они останавливались. Малыш рвал цветы, а отец напевал себе под нос «Глория, Виктория!». Потом шли дальше, но и субъект, тем временем на них оглянувшийся, прибавлял шагу…
— Уматывает, отец!
— Ничего, таким-то аллюром и я за ним поспею! Но Хакендаль уже задыхался. И не только сердце, не только жара, главнее — волнение. Подумать только: шпион! Шоссе было уже совсем рядом, и на нем полно народу…
— Ничего, остановим велосипедиста, — утешал он сына. — Велосипедист его в два счета догонит…
На подходе к Франкфуртер-аллее субъект припустил вовсю. Однако, выйдя на людную улицу, он не бросился наутек, а остановил двух-трех прохожих и начал в чем-то горячо их убеждать…
— Уж не его ли шайка? — предположил Малыш.
— А вот увидим, — просипел Хакендаль. Он побагровел от натуги и с трудом переводил дыхание.
Обступив беглеца, люди молча следили за их приближением.
— Они самые! — неожиданно громко объявил субъект, давеча прятавшийся в кустах.
Когда Хакендаль вышел на Франкфуртер-аллее, прохожие во главе с субъектом тесно окружили его с сыном и грозно на них уставились.
— Господа! — воскликнул Хакендаль. — Этот субъект…
— Послушайте, вы, — обратился к нему субъект, молодой человек геморроидального вида. — Что вы сейчас делали у железной дороги?
— Этот субъект, — продолжал Хакендаль, указывая пальцем, — прятался в кустах и что-то записывал, когда проходил воинский эшелон.
— Это я-то? — вскричал субъект. — Какое бесстыдство! Вот уж — с больной головы на здоровую! Да я своими ушами слышал, как ваш сопляк вагоны считал, вы, гнусный шпион, вы!
— Это вы шпион! — заорал Хакендаль, еще больше наливаясь кровью. — Мой парнишка видел, как вы что-то белое совали в карман!
— А вы… — взвизгнул субъект. — Кто прикидывался, будто рвет цветы? Похоже это на вас — цветы рвать! Да вы уже покраснели, как индюк, — от нечистой совести!
Остальные с недоумением слушали эти обвинения, становившиеся все более серьезными. В нерешимости глядели они на обоих противников и недоуменно переглядывались.
— А может, оба шпионы? — предположил кто-то. — Да только случайно не знают друг про друга?
— Зачем же вы сидели в кустах? — обратился к бледнолицему бородач солидного вида. — Это и в самом деле звучит подозрительно!