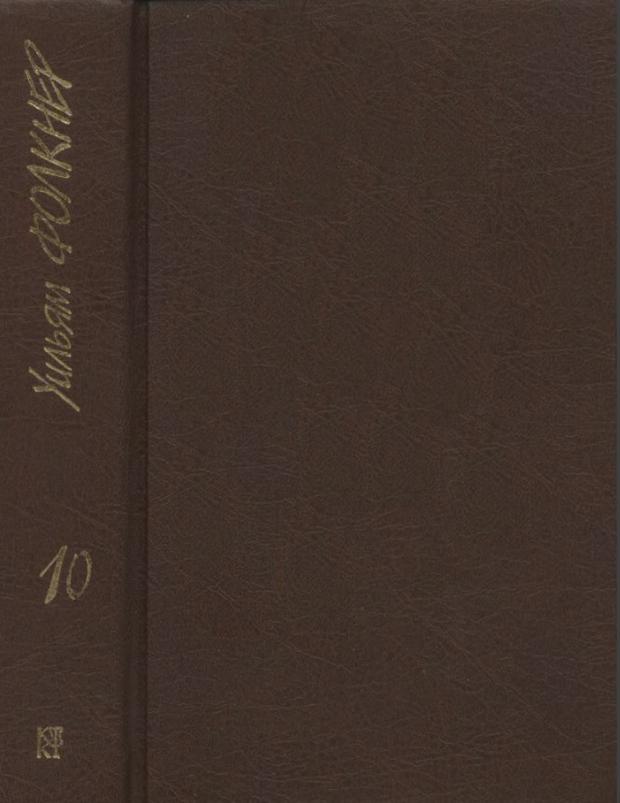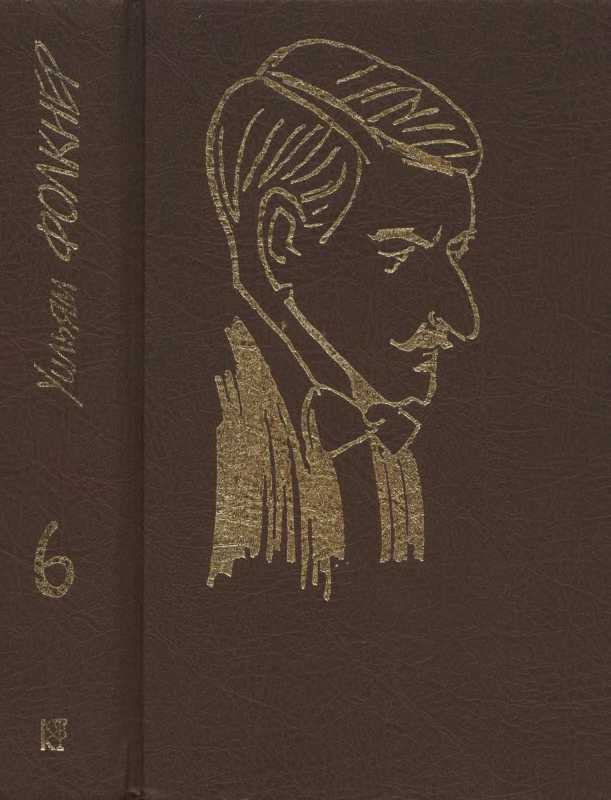которому не хватает ветра, чтобы нестись без остановки. Свет ровно нарастал, прибавляясь словно бы со всех сторон и не из одного источника; теперь он видел слова в газете совсем отчетливо, хотя, произносимые им вслух, они по-прежнему норовили перетекать с места на место, гладко теряя смысл и значение:
— Пятеро близнецов снижаются… Да нет, это же не гонки, там нет никакого пилона… Хотя постой… Пилон-то там был, только он торчал вниз и был тогда зарыт, а они еще не были близнецами, когда вокруг него вертелись… Фермеры требуют. Да. Фермерский сын, два фермерских сына, по крайней мере один из Огайо, так она мне сказала. Потребовали и взяли свое, вспахали айовскую землицу; точно, два фермера-землепашца; точно, два пилона зарытых, в одну айовскую дрему зарытых, в женскую дрему, в пилонную дрему… Нет, постой.
Он уже вошел в переулок и должен был теперь пересечь его, потому что его дверь была на другой стороне; держа газету в той руке, что ползла по стене, он словно из последних сил поднял лист навстречу серому рассвету, фокусируя взгляд, чистое зрение без рассудка и мысли, на симметричной строке заголовков:
ФЕРМЕРЫ ОТВЕРГАЮТ БАНКИРЫ ОТКАЗЫВАЮТ БАСТУЮЩИЕ ТРЕБУЮТ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ЯХТА ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СНИЖАЮТСЯ ПЯТЕРО БЛИЗНЕЦОВ ПРИБАВЛЯЮТ В ВЕСЕ БЫВШИЙ СЕНАТОР РЕНО ПРАЗДНУЕТ ДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ СВОЕГО РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
— на непрочной, сотканной из бумаги и типографской краски паутине, навязчивой, настоятельной; на паутине, вечной и неустранимой пусть даже только лишь в силу своей вечной и неустранимой незначительности, — на плоде умершего мига, взращенном посредством сорока тонн машинерии и нелепого общенародного самообмана. Глаз — орган, неспособный ни к размышлению, ни к изумлению, — сбежал с последнего слова, и зрение, на миг вновь померкнув, двинулось затем дальше, нашло дверь под балконом, уцепилось и померкло окончательно. «Да, — подумал репортер. — Я почти уже на месте, но все-таки как не знал, так и не знаю, дойду или нет».
Джиггс проснулся от ножного тычка в спину. Перекатившись навстречу комнате и утреннему свету, увидел стоящего над ним Шумана, одетого, если не считать рубашки, и парашютиста, который тоже уже не спал, хоть и лежал на боку на раскладушке, подтянув к подбородку индейское одеяло; ноги его укрывал коврик, чье первоначальное место было на полу перед койкой.
— Полдевятого, — сказал Шуман. — Где этот, как его?
— Этот — кто? — спросил Джиггс. Потом сел, одним подскоком приняв сидячее положение, и стал оглядывать комнату с удивленным узнаванием, выставив торчком ступни в лишенных подошв полуносках. — Мать честная, куда он делся-то? Я оставил его и Джека… В три начальник его приходил, сказал, что к десяти ему как штык на работу. — Он посмотрел на парашютиста, которого, если бы не открытые глаза, можно было принять за спящего. — Что с ним приключилось?
— Я откуда знаю, — сказал парашютист. — Он тут лежал, на полу, примерно где ты стоишь, — сказал он Шуману. Шуман тоже посмотрел на парашютиста.
— Ты цеплялся к нему опять? — спросил он.
— Само собой, — сказал Джиггс. — Вот, значит, почему ты не ложился, пока я не заснул.
Парашютист не ответил. Под их взглядами он поднялся, откинув одеяло и коврик, одетый, как был — пиджак, жилетка, галстук, — кроме обуви; под их взглядами надел ботинки, выпрямился опять, секунду-другую постоял в хмурой и свирепой неподвижности, разглядывая свои мятые теперь брюки, потом повернулся к выцветшему театральному занавесу.
— Умыться пойти, — сказал он.
Шуман смотрел, как Джиггс сидя роется в своем парусиновом мешке, достает оттуда теннисные туфли и сапожные голенища, которые он носил вчера, и сует ноги в туфли. Новые сапоги, чистенькие и опрятные, если не считать еле заметных складочек на щиколотках, ровно стояли у стены там, где ночью лежала Джиггсова голова. Шуман поглядел на сапоги, потом на поношенные теннисные туфли, которые Джиггс шнуровал, но ничего не сказал; кроме:
— Что ночью было? Джек его…
— Да нет, — сказал Джиггс. — Они нормально. Пили и пили. Джек иногда его маленько подкалывал, но я вступался. Начальник-то, Господи, сказал, что ему надо к десяти на работу. Ты под лестницей глядел? Под кроватью, где вы спали, глядел? Может, он…
— Нет, — сказал Шуман. — Здесь его нет. — Он смотрел, как Джиггс, кряхтя и чертыхаясь, медленно и жестоко пропихивает теннисные туфли сквозь голенища. — Думаешь, пролезут?
— А то. Не думал бы — не пустил бы штрипки с внешней стороны, — сказал Джиггс. — Тебе полагается знать, куда он подевался, кому же еще; ты же не пил, кажется, вчера ничего? Я сказал начальнику его, что я…
— Ладно, — сказал Шуман. — Иди умойся. Уже подтянув под себя ноги, чтобы вставать, Джиггс секунду помедлил, глядя на свои ладони.
— Я в гостинице вечерочком хорошо их помыл, — сказал он. Начав было подниматься, он приостановился взять с пола недокуренную сигарету, затем вскочил на ноги, глядя на стол и уже засовывая руку в карман рубашки. С окурком в зубах и спичкой в руке он помедлил. На столе среди окружавшего бутыли и лоханку грязного беспорядка — стаканов, пепла, горелых и целых спичек — лежала пачка сигарет из тех, что купил ночью репортер. Джиггс положил окурок в карман рубашки и потянулся за пачкой. — Надо же, — сказал он. — За пару месяцев до чего дойти: от целой сигареты вроде и радости никакой нет.
Потом его рука вновь замерла — на мгновение, не больше, — и Шуман смотрел, как она двинулась к горлышку бутыли, в то время как другая рука отрывала от липкого стола стакан, из которого репортер пил в темноте.
— А вот этого не надо, — сказал Шуман. Повернув к себе тыльной стороной обнаженное запястье, он посмотрел на незатейливые часы. — Без двадцати девять. Пора выкатываться.
— Это да, — сказал Джиггс, наливая в стакан. — Одежонку напяливай, и айда клапаны проверять. Боже ты мой, я ведь обещал его начальнику… Кстати, я узнал ночью фамилию этого нашего. Ты в жизни не…
Он умолк; они с Шуманом смотрели друг на друга.
— Что, опять двадцать пять? — спросил Шуман.
— Не двадцать пять, а только один глоток, который я с вечера перекинул на утро. Ты же сказал — сейчас едем в аэропорт. Как, скажи на милость, я могу там поддать, пусть даже я и хотел бы, когда единственные деньги, какие я, к чертям собачьим, имел за три месяца, и те я, говорят, стибрил? Когда единственный человек, который за три месяца поставил мне выпить, лишился из-за нас обеих кроватей и улегся на пол, а мы даже тем не могли ему отплатить,