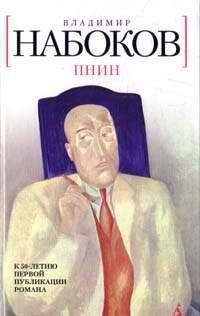При посещении знаменитого гастрономического магазина между Уэйндельвилем и Изолой он наткнулся на Бетти Блисс, пригласил ее, и она сказала, что все еще помнит тургеневское стихотворение в прозе о розах, с припевом «Как хороши, как свежи», и, разумеется, с радостью придет. Он пригласил знаменитого математика профессора Идельсона с женой-скульпторшей, и они сказали, что с удовольствием придут, но потом телефонировали, чтобы сказать, что им ужасно жаль, но они совсем упустили из виду, что уже приглашены в другое место на этот вечер. Он позвал молодого Миллера, теперь уже адъюнкта, с Шарлоттой, его хорошенькой, веснущатой женой, но оказалось, что она вот-вот должна родить. Он позвал старика Кэрроля, старшего швейцара Фриз-Холла, с сыном Франком, единственным одаренным студентом моего друга, написавшим блестящее докторское сочинение о взаимоотношениях русского, английского и немецкого ямба; но Франк был в армии, а старик Кэрроль откровенно сказал, что «нам с хозяйкой не след якшаться с профессорами». Он позвонил по телефону в резиденцию президента Пура, с которым он однажды беседовал (об усовершенствовании учебной программы) во время церемонии на открытом воздухе, покуда не пошел дождь, и пригласил его, но племянница президента Пура ответила, что ее дядя теперь «никого не посещает, кроме нескольких близких друзей». Он уже хотел было отказаться от намерения оживить свой список, когда ему пришла в голову совершенно новая и просто замечательная идея.
И Пнин, и я давно примирились с тем неприятным, но редко обсуждаемым фактом, что в среде университетских преподавателей всегда можно найти не только человека, необычайно похожего на вашего дантиста или на местного почтмейстера, но и двойников в одном и том же профессиональном кругу. Мне известен даже случай тройни в одном сравнительно небольшом колледже, причем, по словам его наблюдательного президента Франка Рида, коренным этой тройки был, как это ни странно, я сам; и я вспоминаю, как покойная Ольга Кроткая однажды рассказала мне, что среди полусотни профессоров Школы Ускоренного Изучения Языков, где во время войны этой бедной даме об одном легком пришлось преподавать летейский и гречневый языки, было целых шестеро Пниных, помимо подлинного и, на мой взгляд, уникального экземпляра. Поэтому не приходится удивляться, что даже Пнин, в повседневной жизни человек не особенно наблюдательный, не мог не заметить (на девятом году своего пребывания в Уэйнделе), что долговязый пожилой господин в очках, с профессорской, стального цвета прядью, спадавшей на правую сторону его небольшого, но морщинистого лба, с глубокими бороздами, сбегавшими от его острого носа к углам длинной верхней губы — человек, известный Пнину как профессор Томас Д. Войницкий, занимающий кафедру орнитологии, с которым он как-то в одной компании беседовал о веселых иволгах, меланхолических кукушках и других русских лесных птицах,— не всегда был профессор Войницкий. Временами он, так сказать, перевоплощался в кого-то другого, кого Пнин не знал по имени, но окрестил, с характерной для иностранца склонностью к каламбурам, Двойницкий. Мой друг и соотечественник скоро смекнул, что никогда он не может сказать наверное, действительно ли этот похожий на филина, быстро шагающий господин, с которым он каждый день сталкивался в разных точках своих хождений между кабинетом и классной комнатой, между классной комнатой и лестницей, между питьевым фонтанчиком и уборной,— был его случайный знакомый, орнитолог, с которым он полагал своим долгом здороваться, проходя мимо, или то был похожий на Войницкого незнакомец, отвечавший на эти унылые приветствия с точно тою же машинальной любезностью, с какой бы это делал и любой случайный знакомый. Самая встреча обыкновенно бывала очень краткой, потому что и Пнин, и Войницкий (или Двойницкий) шагали быстро; и порою Пнин, чтобы избежать этого обмена учтивым лаем, делал вид, что читает на ходу письмо или изловчался улизнуть от быстро приближавшегося коллеги и мучителя, сворачивая на лестницу и затем продолжая свой путь по корридору нижнего этажа; но едва успел он обрадоваться остроумию своей уловки, как, воспользовавшись ею однажды, он чуть не столкнулся с Двойницким (или Войницким), тяжело топавшим по корридору нижнего этажа. Когда начался новый осенний семестр (для Пнина десятый), неловкость положения еще усугубилась тем, что изменились классные часы Пнина, упразднив тем самым некоторые маршруты, на которые он рассчитывал в своих усилиях избегать Войницкого или того, кто прикидывался Войницким. Казалось, он должен будет навсегда примириться с этим положением. Припоминая некоторые другие раздвоения, случавшиеся в прошлом — приводившие в замешательство сходства, которые, однако, он один замечал,— озабоченный Пнин не сомневался в том, что было бы бесполезно просить посторонних помочь ему разобраться в этих Т. Д. Войницких.
В день назначенного раута, когда он кончал свой поздний завтрак в Фриз-Холле, Войницкий, или его двойник (ни тот, ни другой никогда прежде не появлялись там) вдруг подсел к нему и сказал:
— Давно хотел спросить вас кой о чем — вы ведь преподаете русский, не правда ли? Летом я прочитал в одном журнале статью о птицах —
(«Войницкий! Это Войницкий!» — сказал Пнин про себя и тотчас решился действовать).
— Так вот, автор этой статьи — забыл его фамилью, кажется русская — говорит между прочим, что в Скофской губернии — я правильно произношу? — местные пироги выпекаются в виде птицы. В основе тут лежит, конечно, фаллический символ, но мне интересно, знаете ли вы об этом обычае?
И тут у Пнина мелькнула блестящая мысль.
— Сударь, я к вашим услугам,— сказал он с ноткой восторга, задрожавшей в его горле,— ибо он теперь знал, как наверняка установить личность хотя бы первоначального Войницкого — любителя птиц. — Да, сударь. Мне известно все об этих жавронках, об этих alouettes, этих — надо посмотреть в словаре английское название. И вот я пользуюсь случаем сердечно просить вас посетить меня сегодня вечером. Половина девятого, после полудня. Небольшая soiree[35] по случаю новоселья, не более того. Приведите также супругу — или, может быть, вы Кандидат Сердцеведения?
(О, каламбурщик Пнин!)
Его собеседник сказал, что не женат. Он с удовольствием придет, Какой адрес?
— Дом девятьсот девяносто девять, Тодд Родд, очень просто! В самом-самом конце Тодд Родд, там, где она соединяется с Утесной авеню: Маленький кирпичный дом и большой черный утес.
Вечером этого дня Пнин едва мог дождаться начала кулинарных операций. Он приступил к ним вскоре после пяти, и прервал их только для того, чтобы облачиться для приема гостей в сибаритскую домашнюю куртку синего шелка, с кистями и атласными отворотами, выигранную на эмигрантском благотворительном базаре в Париже двадцать лет тому назад — как время летит! С этой курткой он носил пару старых штанов от смокинга, тоже европейского происхождения. Разглядывая себя в треснувшем зеркале шкапчика для лекарств, он надел свои массивные черепаховые очки для чтения, из-под седловины которых гладко выпячивался его русский нос картошкой. Он обнажил свои синтетические зубы. Исследовал щеки и подбородок, чтобы удостовериться, что утреннее бритье еще держалось. Оно держалось. Большим и указательным пальцами он ухватил в ноздре длинный волосок, повторным сильным рывком выдернул его и смачно чихнул, завершив залп здоровым «А!».
В половине восьмого явилась Бетти, чтобы помочь с последними приготовлениями. Бетти теперь преподавала английский язык и историю в Изольской гимназии. Она не изменилась с той поры, когда была полненькой аспиранткой. Ее близорукие серые глаза с розовой каемкой смотрели на вас с той же чистосердечной симпатией. Она носила все те же густые волосы, уложенные, как у Гретхен, тугим кольцом вокруг головы. Тот же самый рубец виднелся на ее нежном горле. Но на ее пухлой руке появилось обручальное колечко с миниатюрным бриллиантом, и она с жеманной гордостью продемонстрировала его Пнину, и тот смутно почувствовал укол грусти. Ему подумалось, что было время, когда он мог бы поухаживать за ней — и даже начал было, но душой она была горничная, и это в ней тоже не изменилось. Она по-прежнему пересказывала какую-нибудь затяжную историю способом «она говорит — я говорю — она говорит». Ничто в мире не могло разуверить ее в мудрости и остроумии ее любимого женского журнала. У нее по-прежнему была занятная манера — общая еще двум-трем молодым мещаночкам в ограниченном кругу знакомых Пнину женщин — легонько, выдержав паузу, похлопывать вас по рукаву, скорее признавая, чем отклоняя ваше замечание, напоминающее ей о какой-нибудь ее мелкой провинности: вы говорите «Бетти, вы забыли вернуть мне книгу» или «Мне кажется, Бетти, вы говорили, что никогда не выйдете замуж», и прежде чем ответить, она пускает в ход этот якобы учтивый прием, отдергивая короткие пальцы в то самое мгновение, когда они прикасаются к вашей кисти.