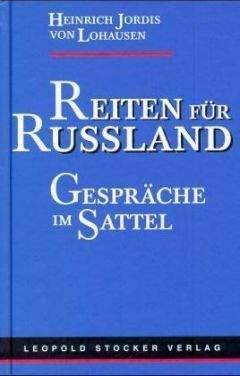— Ну, а какие же были у вас другие причины? — перебила я.
— Опасение, что моя страсть усилится, что я не сумею ее скрыть, сделаюсь смешным и несчастным…
— Ну, что ж, вы несчастны сегодня?
— О, Марта!.. Со вчерашнего дня я живу в таком хаосе чувств, что едва ли сознаю что-нибудь хорошенько. И все-таки меня волнует страх — как бывает в сладком сне — что я неожиданно пробужусь для горькой действительности. Собственно говоря, моя любовь не имеет будущности… Ну, что могу я вам предложить?… Сегодня вы дарите меня своим благоволением, я вознесен на седьмое небо, а завтра… или, пожалуй, немного позже, вам вздумается лишить меня этого незаслуженного счастья, и вот я ввергнут в бездну отчаянья… Но что со мной? Право, я не узнаю себя: моя речь пересыпана такими гиперболами, а между тем я вовсе не склонен к экзальтации и обыкновенно отличаюсь большою рассудительностью и хладнокровием. Я враг всяких преувеличений. Впрочем, в применении к вам ничто не кажется мне преувеличенным: в вашей власти подарить меня блаженством и сделать глубоко несчастным…
— Ну, теперь поговорим и о моих сомнениях: принцесса… — О, неужели эта сплетня дошла и до вас? Это все пустяки. Тут ровно ничего не было.
— Вы отрекаетесь; разумеется, это долг каждого порядочного человека.
— Вышеупомянутая особа — ее сердце, как известно, приковано в настоящее время к Бург-театру… надолго ли? оно так легко увлекается в разные стороны! — эта особа не принудила бы к гробовому молчанию даже самого скромного человека; поэтому вы можете поверить мне вдвойне. Кроме того, если бы эти слухи имели основание, зачем было бы мне тогда покидать Вену?
— Ревность не хочет знать выводов разума: зачем бы мне назначать вам свидание, если б я желала встретиться здесь с моим кузеном Альтгаузом?
— Ах, как трудно мне, Марта, спокойно ехать рядом с вами… Я хотел бы упасть к вашим ногам или, по крайней мере, поцеловать вашу руку…
— Дорогой Фридрих, нежно сказала я, — подобные излияния совсем не нужны… И словами можно выразить свою любовь, как коленопреклонением, ласками, как…
— Поцелуем, — добавил он.
При этом слове, у нас по телу как будто пробежала электрическая искра; мы пристально посмотрели друг другу в глаза и поняли, что можно целоваться и взглядами… Он заговорил первый:
— С которых пор?
Я поняла его лаконический вопрос и отвечала:
— С того званого обеда у моего отца, а вы?
— Вы? Это «вы» звучит диссонансом, Марта. Я отвечу только тогда, если вопрос будет формулирован иначе.
— А… а ты?
— Я? С того же вечера, конечно, но моя любовь стала мне ясна лишь у смертного одра моей матери… О, как тосковал я тогда о тебе!
— Да, и мне все стало понятно из твоего письма. А вот ты так не понял значения алой розы, вплетенной между безжизненными белыми цветами; иначе ты не избегал бы меня так тщательно после своего приезда из Берлина. Впрочем, я и теперь не понимаю причины твоей сдержанности, твоего желания уехать отсюда.
— Это очень легко понять. Я никогда не позволял себе надеяться, что ты будешь моею. Только с той минуты, когда ты именем моей покойной матери приказала мне прийти к тебе еще раз, а потом велела оставаться, я понял, что ты не относишься ко мне безучастно, что я могу посвятить тебе свою жизнь.
— Значит, если б я сама не погналась за тобою, как говорится, ты не дал бы себе труда завоевать мою любовь?
— Но у тебя столько женихов; я никогда не решился бы соперничать с такой плеядой.
— Ах, эти люди нейдут в счет! Большинство из них думало только о выгодной женитьбе на богатой вдове…
— Видишь, этими словами определяется, преграда, которая удерживала меня от ухаживания за тобою: ты — богатая вдова, у меня же нет никакого состояния. Лучше умереть от несчастной любви, чем быть заподозренным светом, а, главное, обожаемой женщиной в корыстных видах, в которых ты сейчас обвинила толпу претендентов на свою руку.
— О, ты мой гордец, мой благородный, несравненный! Разве я в состоянии приписать тебе хоть что-нибудь мелочное, низкое…
— Откуда такое доверие? В сущности ты знаешь меня очень мало.
И мы продолжали выспрашивать друг друга в таком же духе. За вопросом: «с которых пор» началась наша любовь, последовали объяснения: «почему?» Мне прежде всего понравилась в нем откровенность его отзывов о войне. То, о чем а думала про себя, что перечувствовала, затаив ото всех свои чувства, было продумано им еще основательнее, перечувствовано еще сильнее, чем мною, а, главное, высказано совершенно без утайки. Я же была уверена, что ни один военный может разделять моих мнений и уж ни в каком случае не станет явно обнаруживать своего отвращения к ужасам войны. Таким образом, я увидела, насколько его личные качества возвышались над интересами его сословия и насколько перерос его ум воззрения современного большинства. Это создало, так сказать, основу моей возвышенной любви к нему. Кроме того, у нас обоих нашлось еще многое, что мы и отвечали друг другу на вопрос: «почему?» Меня пленила и его красивая, благородная наружность, и кроткий голос, в котором однако сказывалась твердость характера; я полюбила его потому, что сам он был таким любящим сыном, потому что…
— Ну, а ты за что полюбил меня? — прервала я перечень его достоинств.
— О, по тысяче и одной причине!
— Послушаем. Сначала приведи мне эту тысячу.
— Полюбил я тебя за великое сердце, за крошечную ножку, за блестящий ум, за кроткую улыбку, за тонкую шутливость, за белую ручку, за женское достоинство, за чудесные…
— Довольно, довольно! Неужели ты дойдешь до тысячи? Нет, скажи уж мне скорее одну последнюю причину.
— Она проще всех, так как совмещает в себе все остальные. Я люблю тебя, Марта, потому что люблю тебя. Вот почему!
С Пратера я прямо поехала к своему отцу.
Новость о моей помолвке должна была, разумеется, повлечь за собою неприятные объяснения, но я предпочла не уклоняться от них, а напротив, пойти им навстречу сейчас же, сию минуту, пока находилась еще под свежим впечатлением своего завоеванного счастья. Отец мой, любивший поздно вставать, сидел за завтраком, читая утренние газеты, когда я вошла в его рабочий кабинет. Тетя Мари была тут же и тоже за чтением.
Когда я довольно торопливо вошла в комнату, папа с удивлением поднял глаза от своей «Presse», а тетка положила на стол «Fremdenblatt».
— Марта, так рано? И в амазонке, — что это значит?
Я обняла их обоих и сказала, бросаясь в кресло:
— Это значит, что я сейчас каталась в Пратере, где произошло нечто такое, что я хочу немедленно вам сообщить. Поэтому я даже не поехала домой переодеться…
— Вероятно, что-нибудь действительно важное и безотлагательное? — спросил папа, закуривая сигару. — Рассказывай; нам очень интересно знать.
Критическая минута наступила. Следовало ли мне начать издалека, с различными вступлениями и оговорками? Нет, лучше высказать все сразу с решимостью пловца, бросающегося одним прыжком в воду.
— Я выхожу замуж…
Тетя Мари всплеснула руками; отец нахмурился.
— Надеюсь однако, — начал он, — что твой выбор не…
Но я не дала ему кончить.
— Я выхожу за человека, которого люблю всем сердцем, глубоко уважаю и который, надеюсь, сделает меня вполне счастливой. Мой жених — барон Фридрих фон Тиллинг.
Отец вскочил с места.
— Дождались таки! И это после всего, что я говорил тебе вчера…
Тетя Мари покачала головой.
— Я желала бы для тебя другого мужа, — сказала она. — Тиллинг, во-первых, не партия: у него, говорят, ничего нет; во-вторых, его правила и взгляды кажутся мне…
— Его правила и взгляды сходятся с моими, а искать так называемой «партии» я не намерена… Отец, дорогой отец, не принимай этого в дурную сторону! Не отравляй мне высокого счастья, которым в настоящую минуту переполнено мое сердце. О. мой добрый, любимый, старый папочка!
— Но, дитя мое, — отвечал он, несколько смягчившись, потому что дочерняя ласка всегда имела свойство обезоруживать его, — ведь я хлопочу о твоем же счастье. Разве ты можешь быть счастливой с военным, который не предан своему делу, как следует каждому истинному солдату — душой и телом?
— Тебе не следует вовсе выходить за Тиллинга, — поддакнула отцу и тетя Мари. — Его мнения о военной службе меня, положим, не касаются, но я не могла бы найти счастья в замужестве с человеком, который так непочтительно отзывается о Иегове древней библии.
— Позволь тебе заметить, дорогая тетя, что ведь не ты выходишь замуж за Фридриха Тиллинга.
— Вольному воля, спасенному рай, — заметил со вздохом отец, садясь на прежнее место. — Тиллинг, конечно, выходит в отставку.
— Об этом мы пока еще не говорили. Для меня это, разумеется, было бы приятнее, но я боюсь, что он не согласится.