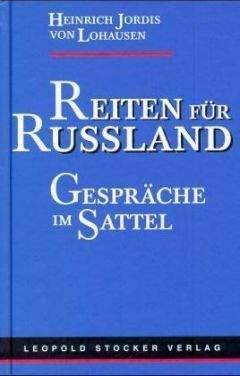— Скажи, ради Бога, как позволяет любящая мать своему единственному ребенку, своему сокровищу, браться за такую опасную профессию, как военная?
— Видишь, милое дитя, — отвечал мне муж, — существуют вещи, о которых не принято думать, и самые простые соображения, которые никогда не принимаются в расчет. То же самое относится и к опасности солдатской службы. Об ней старательно умалчивают, находя неприличным и достойным только трусов — ставить ребром подобный вопрос. Все находят совершенно в порядке вещей, считают чем-то неизбежным и должным, чтобы гражданин подвергал себя этой опасности, от которой почти всегда удается благополучно спастись (ведь процент убитых мысленно распределяется между другими), при чем никто не думает о риске умереть. Риск этот несомненно существует, но ведь смерть грозит всем и каждому, а не одним же военным, и однако никто не думает о ней. Люди вообще изощряются на все лады прогонять тяжелые мысли, и в этом отношении человеческий ум обнаруживает поразительную изобретательность. Кроме того, прусскому дворянину не найти более приятного и почетного положения, как служба кавалерийского офицера.
Тетя Корнелия, с своей стороны, кажется, также почувствовала ко мне симпатию.
— Как жаль, — заметила она, вздыхая, — что сестре не удалось дожить до нынешнего дня. Она была бы в восторге от такой невестки, как ты, и от счастья Фридриха. Ей давно хотелось женить его, но он предъявлял такие требованья…
— О, вероятно, нет, дорогая тетя, если его выбор остановился на мне…
— Вот что англичане называют: «A trap for a compliment!» Ты хочешь, чтоб я тебе польстила? Изволь! я желала бы, чтоб мой Готфрид сделал такую же счастливую находку. Мне уж и теперь хочется поняньчить внуков, только об этом еще рано мечтать: моему сыну едва минуло двадцать один год.
— Вероятно, он кружит головы всем молодым барышням, разбивает множество юных, неопытных сердечек.
— Ну, едва ли: трудно найти более честного, порядочного юношу. Со временем он доставит много счастья своей жене…
— Как и Фридрих мне.
— Ты не можешь еще знать ничего заранее, душа моя; супружеским счастьем можно хвалиться, прожив лет десять с мужем; вначале, в первые месяцы после свадьбы, все браки очень счастливы. Впрочем, судя по всем данным, как со стороны моего племянника, так и с твоей, можно, пожалуй, безошибочно предсказать, что вы не обманетесь один в другом.
Из Берлина мы отправились путешествовать по германским курортам. Не считая моего кратковременного путешествия по Италии с покойным Арно — о чем у меня сохранилось только очень смутное воспоминание — я почти не выезжала из Вены. Теперешнее же знакомство с новыми местностями, новыми людьми и новым образом жизни привело меня в самое восторженное настроение. Мир показался мне вдруг таким прекрасным и снова заинтересовал меня, как в годы первой юности. Если б не малютка Рудольф, оставленный дома, я сказала бы Фридриху: «Давай путешествовать, как теперь, целые годы. Объездим всю Европу, а там и другие части света; станем наслаждаться беззаботным существованием туристов, свободно перекочевывать с места на место, отдаваясь отраде новых впечатлений, собирая новые сведения. Ведь путешествуя вдвоем, мы будем чувствовать себя немножко дома и в совершенно чуждых странах и между чужими людьми». Но что ответил бы мне Фридрих на такое предложение? Вероятно, он сказал бы, что человек не может продлить своей свадебной поездки до конца дней и сделать из путешествий свое призвание; что ему дан официальный отпуск всего на два месяца, и привел бы в придачу еще другие, не менее благоразумные доводы.
Мы посетили Баден-Баден, Гомбург, Висбаден. И всюду то же веселое оживление, элегантная жизнь, масса интересных личностей со всех концов света. Только тут, при столкновении с иностранцами, я узнала, что мой муж владеет в совершенстве языками: английским и французским. Это еще более возвысило его в моих глазах. Вообще я открывала, в нем все новые достоинства: кротость, веселость, живую восприимчивость ко всему прекрасному. Поездка по Рейну восхитила его, а в театрах и концертах художественное исполнение артистов доставляло ему глубокое наслаждение. Поэтому Рейн со своими живописными старинными замками показался мне вдвое романтичнее, а слышанные нами знаменитые виртуозы приводили меня в совершенный восторг.
К сожалению, эти два месяца промелькнули слишком быстро. Фридрих просил продлить его отпуск, но получил отказ. Co дня нашей свадьбы, это была моя первая неприятность; мне стало ужасно досадно, когда муж получил сухой официальный приказ, требовавший нашего немедленного возвращения на родину.
— И люди называют это свободой! — воскликнула я, сердито швыряя на стол оскорбительный документ.
Тиллинг улыбнулся.
— Да я и не думаю считать себя свободным человеком, моя повелительница.
— О, если б я была твоей: повелительницей, то могла бы тебе приказать распроститься с противной военной службой и служить только мне.
— Этот вопрос уже раз навсегда решен между нами…
— Разумеется, и я должна уступить, но это опять таки доказывает, что ты вовсе не раб своей жены… и в сущности я сама довольна таким порядком вещей, мой милый, гордый муж.
Вернувшись из заграничного путешествия, мы переселились в маленький моравский городок — крепость Ольмюц, где стоял полк Фридриха. Об общественных развлечениях в этом захолустье не могло быть и речи; мы предпочли им полное уединение. Исключая часов, посвящаемых нами служебным обязанностям, — т. е. когда Фридрих возился со своими драгунами, а я исполняла материнские обязанности относительно моего Рудольфа, — мы с мужем вполне принадлежали друг другу. Я обменялась с полковыми дамами необходимыми церемонными визитами, но от более короткого знакомства решительно уклонилась. Меня нисколько не прельщали интимный собрания за чашкой кофе, где провинциальные дамы передают одна другой домашние дрязги с прислугой и перемывают косточки знакомым. А моего мужа не тянула к себе ни картежная игра у полкового командира, ни попойки с товарищами. Мы нашли для себя несравненно лучшее препровождение времени. Сфера, в которой вращались наши интересы — когда мы с Фридрихом сидели по вечерам перед дымящимся чайным котелком — была очень удалена от мирка ольмюцкого общества. Жителям этого захолустья было до нее «как до звезды небесной далеко» и в переносном, да отчасти и в буквальном смысле, потому что нам более всего нравилось направлять свои умственные экскурсии в область небесных светил. Мы читали вместе научные сочинения и знакомились из них с чудесами вселенной. Тут нам приходилось спускаться в глубины земного шара и возноситься к небу, проникать в тайны бесконечно малых микроорганизмов и блуждать в бесконечно далеких пространствах, доступных глазу, только вооруженному телескопом. И чем величественнее развертывалась перед нашими взорами вселенная во всем ее необъятном разнообразии, тем ничтожнее казались интересы, поглощайте жителей Ольмюца. Однако в выборе чтения мы не ограничивались одной областью естествознания, но брались и за другие отрасли научных исследований и мышления. Так я принялась в третий раз перечитывать своего любезного Бокля, чтобы познакомить Фридриха с этим автором, которым он восхищался не меньше меня. При этом мы не пренебрегали ни поэтами, ни романистами, так что наши литературные вечера были настоящими праздниками ума, между тем как остальное существование было непрерывным праздником сердца. Наша любовь крепла с каждым днем, и если страсть понемногу утрачивала свой прежний пыл, зато узы привязанности становились теснее, взаимное уважение возрастало. Но что меня особенно радовало, так это отношение Фридриха к Рудольфу. Они были самыми лучшими товарищами, каких только можно себе представить; смотреть на их игры и возню была настоящая потеха. Фридрих, пожалуй, дурачился еще хуже маленького. Тогда к ним спешила присоединиться и я. Какие глупости проделывались и говорились нами втроем, невозможно передать. Да простят нам это мудрецы и ученые, которых мы читали, уложив Рудольфа спать, Хотя Фридрих уверял, что прежде не особенно любил детей, но маленький пасынок, во-первых, был ребенком его Марты, во-вторых, действительно заслуживал любви милым характером и обращением, да и сам искренно привязался к отчиму. Мы часто строили планы насчет будущности мальчика. Неужели сделать его солдатом?… Нет. Он не подойдет к этой роли, потому что в нашу программу воспитания не входило искусственное развитие любви к военной славе. Чем же он будет, — дипломатом? Пожалуй, но вернее всего — сельским хозяином. Как будущему наследнику майората фамилии Доцки, — который должен был перейти к нему от дяди Арно, в то время уже шестидесяти-шестилетнего старика, — Рудольфу найдется достаточно дела и в своих обширных поместьях: если управлять ими, как следует. Тогда он введет к себе в дом свою маленькую невесту, Беатрису, и сделается счастливым человеком. Мы с Фридрихом сами были до того счастливы, что искренно желали наделить счастьем всех своих современников, да и за грядущим потомством упрочить побольше жизненных благ. Но это радужное мировоззрение не мешало нам, однако, видеть горе и бедствия, которые удручают большую часть человечества и вероятно будут удручать его еще в нескольких поколениях. Я говорю о бедности, невежестве, рабстве, подвергающих человека такому множеству опасностей и зол, между которыми самое ужасное — война. «Ах, если б можно было способствовать ее уничтожению». Это горячее желание часто срывалось у нас с языка, но, вникнув в существующий порядок вещей и принимая в соображение современные взгляды общества, приходилось сознаться, что это недостижимо. К несчастью, прекрасная мечта о том: «да благо всем будет и да долголетни будут все на земли», не хочет осуществиться, по крайней мере, в настоящем. Однако учение пессимистов, будто бы жизнь есть зло и что для всех было бы лучше не родиться, вполне опровергалось нашим собственным существованием.