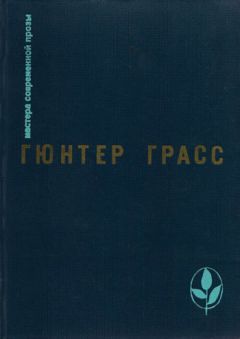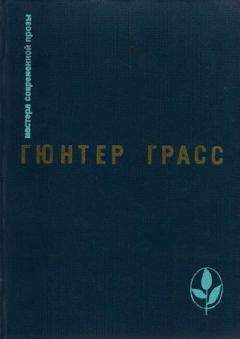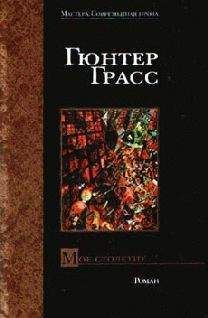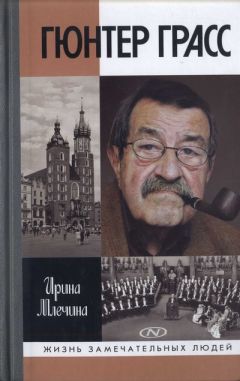— Тебе там не зимовать.
— Главное, чтобы зажигалка была цела, спирту внизу сколько угодно.
— А эту штуку я бы не выбрасывал. Кто знает, может, за границей ее и в заклад возьмут.
Мальке с ладони на ладонь перекидывал знак отличия. Даже сходя с мостика и шаркающими шагами нащупывая люк, он продолжал эту игру, несмотря на то что правую его руку оттягивала сетка с консервами. Колени у него подгибались. Его тело, поскольку солнце опять проглянуло на минуту-другую, отбрасывало тень в левую сторону.
— Наверно, уже половина одиннадцатого, если не больше.
— Совсем не так холодно, как я думал.
— После дождя всегда тепло.
— Я считаю, в воде семнадцать градусов, в воздухе девятнадцать.
Вблизи причального буя стояла землечерпалка, видимо работавшая, но шум ее оставался воображаемым, так как ветер дул в другую сторону. Воображаемой была и Малькова мышь, так как, ищущими своими шагами сыскав наконец отверстие люка, он уже больше ко мне лицом не поворачивался.
С тех пор я непрерывно буравлю себя вопросом: сказал ли он что-нибудь, прежде чем спуститься вниз? Полудостоверным остается только взгляд через левое плечо, искоса брошенный на мостик. Он присел на корточки и побрызгал на себя водой, красная, как флаг, материя гимнастических трусов стала темно-бордовой; правой рукой поудобнее перехватил сетку… «Блямба»? На шее она не болталась. Может быть, он незаметно ее отшвырнул? Какая рыба принесет ее мне? И еще сказал что-нибудь через плечо? Бросил какое-нибудь слово вверх, чайкам? Пляжу, посудинам на рейде? Может быть, проклял свору, пустившуюся по его следам? Кажется, я не слышал, чтобы ты сказал: «До вечера». Головой вперед, отягощенный двумя консервными банками, он скрылся под водой — согнутая спина и зад исчезли из виду. Белые ступни взметнулись в пустоте. Вода над люком побежала привычными короткими волнишками.
Тогда я снял ногу с консервного ножа. Я и консервный нож остались снаружи. Если бы еще я сразу вскочил в лодку, отвязал ее и уехал: «Он и без ножа сумеет их открыть», — но я не двинулся с места, я считал секунды, предоставил считать их стоявшей у причального буя землечерпалке с подвижными черпаками и напряженно считал вместе с нею: тридцать две, тридцать три ржавые секунды. Тридцать шесть, тридцать семь секунд на вычерпывание ила. Сорок одна, сорок две плохо смазанных секунды, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь секунд землечерпалка поднимала, опрокидывала, захватывала воду черпаками, делала свое дело: углубляла новый фарватер у входа в гавань и помогала мне отмерять время. Мальке должен был уже быть у цели с консервными банками и без консервного ножа, с «блямбой», близнецом которой была сладостная горечь, или без оной, должен был уже находиться в радиорубке польского тральщика «Рыбитва», расположенной над водой.
Мы хоть и не уславливались ни о каком перестукивании, но ты все же мог постучать. Раз и еще раз предоставил я землечерпалке отсчитать для меня тридцать секунд. Как это говорится? По человеческому разумению он должен был бы… Чайки сбивали меня с толку. Набрасывали мудреный узор между нашей лодчонкой и небом. Но когда без всякого видимого повода они вдруг повернули вспять, меня стало сбивать с толку их отсутствие. И я начал своими каблуками, а потом и сапогами Мальке обрабатывать настил капитанского мостика: ржавчина отлетала кусками, обызвествленный чаячий помет крошился и плясал в воздухе при каждом ударе. Пиленц с консервным ножом в сжатом кулаке барабанил и кричал:
— Подымись наверх, старик! Ты забыл консервный нож, консервный но-о-ож… — Пауза после отчаянных, а потом уже ритмически упорядоченных ударов и выкриков. Увы, я не знал азбуки Морзе и барабанил: раз-два, раз-два. Я охрип: — Ко-о-онсервный но-ож! Ко-о-онсервный нож!
С той пятницы я знаю, что такое тишина — тишина воцаряется, когда улетают чайки. Ничто не может создать эффект тишины лучше, чем работающая землечерпалка, когда ее железный лязг слизывает ветер. Но еще более полную тишину создал Иоахим Мальке, не откликнувшись на шум, мною произведенный.
Итак, я греб к берегу. Прежде чем отчалить, я швырнул консервный нож в направлении землечерпалки, но в нее не попал.
Итак, я выбросил его, налег на весла, сдал лодку старику Крефту, доплатил тридцать пфеннигов и сказал:
— Возможно, я вечером буду в ваших краях и еще раз возьму лодку.
Итак, я выбросил нож, налег на весла, доплатил, сказал, что приду еще, сел в трамвай и поехал «домой», как говорится.
Итак, после всего этого я не сразу пошел домой, но заглянул еще на Остерцейле и, не задавая никаких вопросов, попросил дать мне паровоз в рамке, ведь я сказал ему и Крефту: «Возможно, я вернусь вечером…»
Итак, моя мать только-только управилась с приготовлением обеда, когда я явился домой с фотокарточкой. Начальствующий господин из военизированной охраны вагонного завода ел вместе с нами. Рыбу мать не подала; а рядом с моей тарелкой лежал конверт из управления призывного района.
Итак, я читал и читал приказ о моем призыве в армию. Мать начала плакать и привела в смущение своего гостя.
— Я же только в воскресенье вечером еду, — сказал я и бесцеремонно добавил — Ты не знаешь, где папин полевой бинокль?
Итак, с этим биноклем и с фотографией я в воскресенье утром, а не в тот же вечер, как было у словлено, отправился в Брёзен — над морем стояла мгла, к тому же опять пошел дождь. Я отыскал самую высокую точку на поросших лесом дюнах — это была площадка у памятника павшим воинам, — влез на верхнюю ступеньку пьедестала: надо мной высился обелиск с венчавшим его золотым шаром в брызгах дождя. Не менее получаса, а то и три четверти часа я не отнимал бинокля от глаз. Только когда все стало расплываться, я опустил его и взглянул на заросли шиповника.
Итак, ничто не шелохнулось на лодчонке. Мне были отчетливо видны два солдатских сапога. Правда, чайки снова кружили над ржавым мостиком, садились, посыпали пометом палубу и сапоги— но что доказывают чайки? На рейде все те же посудины, что и накануне. Но шведа среди них не было, вообще не было ни одного судна из нейтральной страны. Землечерпалку слегка отнесло. Погода, видимо, собиралась разгуляться. Я снова поехал «домой», как говорится. Мать помогала мне укладывать мой чемодан «под кожу».
Итак, я укладывался: фотографию я вынул из рамки и, поскольку ты не претендовал на нее, положил на самое дно. На твоем отце, на кочегаре Лабуде, на их паровозе с неразведенными парами стопкой лежало мое белье, разные мелочишки и мой дневник, впоследствии вместе с фотографией и письмами пропавший под Котбусом.
Кто поможет мне сочинить хороший конец? Ибо то, что началось с кошки и мыши, и сейчас мучит меня, стоит мне увидеть нырка на прудах среди камышовых зарослей. Если я бегу от природы, то научно-популярные фильмы демонстрируют мне этих вертких водоплавающих птиц. А не то киножурнал показывает работы по подъему затонувших судов на Рейне или водолазов на дне гамбургской гавани: они готовятся взорвать бункеры рядом с верфью и убрать авиамины. Люди в блестящих, слегка помятых шлемах уходят под воду, потом возвращаются, множество рук тянется к ним; товарищи отвинчивают, снимают с них шлемы; но никогда Великий Мальке не закуривает сигарет на мерцающем экране, курят другие.
Если цирк приезжает в наш город, я усердно пополняю его кассу. Я уже знаю всех артистов, не раз беседовал с тем или иным клоуном, отведя его за жилой фургон; но эти господа по большей части лишены чувства юмора и отродясь не слыхивали о коллеге по имени Мальке.
Должен еще заметить, что в октябре пятьдесят девятого года я ездил в Регенсбург на встречу тех из оставшихся в живых, что подобно тебе были награждены Рыцарским крестом. В зал меня не впустили. Там то играл, то смолкал оркестр бундесвера. Через лейтенанта, командовавшего охраной, я попросил во время одной из этих пауз объявить с эстрады: «Унтер-офицера Мальке просят пройти в вестибюль». Но ты не пожелал вынырнуть.
«О дева, славнейшая из дев, не отринь меня…» (лат.)
Солонина, тушенка (англ.).
«Прииди, Дух святой» (лат.).
«Стояла мать скорбящая» (лат.).
«Райская слава» (лат.).
«Аминь» (лат.).
Католические союзы молодых ремесленников, учрежденные священником Адольфом Колпингом в 1848 г. — Здесь и далее примечания переводчиков.
Моя вина (лат.).
«За заслуги» (франц.).