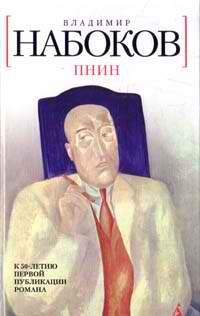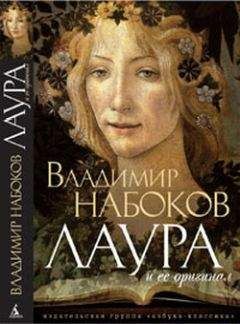Ощущение, что он живет сам по себе, в собственном доме, было для Пнина до странности упоительным; оно глубоко удовлетворяло наболевшей старой потребности его сокровенного существа, забитого и оглушенного тридцатью годами безприютства. Одним из самых восхитительных достоинств этого места была тишина — ангельская, сельская, совершенно непроницаемая, составлявшая блаженную противоположность непрестанной какофонии, осаждавшей его с шести сторон в наемных комнатах его прежних пристанищ. А до чего этот крохотный домик был поместителен! Пнин с благодарным удивлением думал, что, не будь ни революции, ни эмиграции, ни экспатриации во Франции, ни натурализации в Америке, всё — и то в лучшем случае, в лучшем случае, Тимофей! — было бы точно так же: профессура где-нибудь в Харькове или Казани, загородный дом вроде этого, в доме старые книги, за домом поздние цветы. Если же рассуждать трезво, это был двухэтажный дом вишнево-красного кирпича, с белыми ставнями и гонтовой крышей. Зеленый участок, на котором он стоял, с палисадником аршин в пятьдесят, оканчивался позади отвесной стеной мшистого утеса с вершиной, обросшей бурым чапыжником. Едва заметная колея вдоль южной стороны дома вела к выбеленному гаражику для плохонькой автомашины Пнина. Странная, корзинообразная сетка, несколько напоминавшая сублимированный кошель бильярдной лузы — однако без дна, — свисала зачем-то над подъемными воротами гаража, на белую поверхность которых она отбрасывала тень — такую же четкую, как и ее собственный плетеный подлинник, но только крупнее и синее[39]. На покрытый сорной травой пустырь между гаражом и утесом захаживали фазаны. Сирень — краса русских садов, весеннюю роскошь которой, сплошь из меда и гуда, так предвкушал мой бедный Пнин, — теперь теснилась сухими рядами вдоль одной из стен дома. И одно высокое лиственное дерево, которого Пнин, привычный лишь к березам, липам, ивам, осинам, тополям да дубам, не мог определить, бросало свои крупные, сердечком, ржавого цвета листья и бабьего лета тени на деревянные ступени открытого крыльца.
Подозрительного вида нефтяная печь в подвале что было сил подавала свое слабое теплое дыхание сквозь отдушины в полу. Кухня же выглядела благополучно и весело, и Пнин долго разбирался во всякой утвари, котелках и кастрюлях, жаровнях для гренков и сковородах, которые достались ему в придачу к дому. Гостиная была меблирована скудно и серо, но в ней имелась довольно привлекательная ниша с окном, где обитал огромный старый глобус, на котором Россия была бледно-голубая, с выцветшим или вытертым пятном по всей Польше. В очень маленькой столовой, где Пнин задумал устроить для своих гостей ужин à la fourchette, пара хрустальных подсвечников с подвесками запускала по утрам радужные блики, которые прелестно загорались на стенке буфета и напоминали моему сантиментальному другу цветные стекла на верандах русских усадеб, окрашивавшие солнце в оранжевые, зеленые и лиловые тона. Всякий раз, что он проходил мимо посудного шкапа, тот принимался дребезжать, и это тоже было знакомо по смутным задним комнатам прошлого. На втором этаже располагались две спальни, где перебывало много маленьких детей, а иногда и случайных взрослых. Полы там были в длинных царапинах от оловянных игрушек. Со стены комнаты, которую Пнин сделал своей спальней, он открепил картонный красный вымпел, что ли, с загадочным словом «Кардиналы», намалеванным на нем белой краской[40]; но крошечной качалке розового цвета — для трехлетнего Пнина — позволено было остаться в своем углу. Отслужившая свое швейная машина занимала проход в ванную, где короткая, как водится в Америке, ванна, созданная для карликов племенем великанов, наполнялась так же медленно, как бассейны и резервуары в русских задачниках.
Теперь он был готов принять гостей. В гостиной стоял диван, на котором могли поместиться три человека, имелись два вольтеровских кресла, одно туго набитое глубокое кресло, кресло с камышовым сиденьем, пуф и две скамеечки для ног. Просматривая список приглашенных, он вдруг испытал странное чувство неудовлетворенья. Была тут крепость, но не чувствовалось букета. Он, конечно, был несказанно рад Клементсам (настоящие люди — не то что большинство университетских манекенов), с которыми он имел столько оживленных бесед, когда квартировал у них; и он безусловно был весьма признателен Герману Гагену за множество добрых услуг, вроде того повышения оклада, которое Гаген недавно устроил; и г-жа Гаген несомненно была, на вэйндельском жаргоне, «чудный человек», и г-жа Тэер всегда приходила к нему на помощь в библиотеке, а ее муж обладал отрадной способностью подтверждать собственным примером, до чего человек может быть немногословен, если решительно уклоняется от обсуждения погоды. Но в этом сочетании людей не было ничего необычайного, оригинального, и постаревший Пнин вспоминал дни рождения своего детства — пять или шесть приглашенных детей, почему-то всегда одних и тех же, и тесные ботинки, и боль в висках, и ту тяжкую, безрадостную, давящую скуку, которая овладевала им, когда все игры уже переиграны и буян двоюродный брат начинал выделывать пошлые и глупые трюки с чудесными новыми игрушками; ему вспомнился еще звон одиночества в ушах, когда во время затянувшейся, однообразной игры в прятки он, просидев битый час в неудобном укрытии, выбрался из темного и затхлого шкапа в комнате служанки и обнаружил, что все его товарищи давно разошлись по домам.
При посещении знаменитого гастрономического магазина, расположенного на полпути от Вэйндельвиля к Изоле, он встретил Бетти Блисс, пригласил ее, и она сказала, что все еще помнит тургеневское стихотворение в прозе о розах, с припевом «как хороши, как свежи», и, разумеется, с радостью придет. Он пригласил знаменитого математика профессора Идельсона с женой-скульпторшей, и они сказали, что с удовольствием придут, но потом телефонировали, что им ужасно жаль, но они совсем упустили из виду, что уже приглашены в другое место на этот вечер. Он позвал молодого Миллера, теперь уже адъюнкта, с Шарлоттой, его хорошенькой веснущатой женой, но оказалось, что она вот-вот должна родить. Он позвал старого Карроля, старшего швейцара Фриз-Холла, с сыном Франком, который был единственным одаренным студентом моего друга, написавшим блестящее докторское сочинение о взаимоотношениях русского, английского и немецкого ямба; но Франк был в армии, а старик Карроль откровенно сказал, что «профессора сами по себе, а они с хозяйкой — сами по себе». Он позвонил по телефону в резиденцию президента Пура, с которым он однажды беседовал об усовершенствовании учебной программы во время церемонии на открытом воздухе, покуда не пошел дождь, и пригласил его, но племянница Пура ответила, что ее дядя теперь «никого не посещает, кроме нескольких близких друзей». Он уже хотел было отказаться от намерения оживить список своих гостей, когда ему пришла в голову совершенно новая и прямо замечательная идея.
И Пнин, и я давно примирились с тем неприятным, но редко обсуждаемым фактом, что в среде университетских преподавателей всегда можно найти не только кого-нибудь необычайно похожего на вашего зубного врача или на местного почтмейстера, но и двойников в одном и том же профессиональном кругу. Мне известен даже случай тройни в одном сравнительно небольшом колледже, причем, по словам его наблюдательного президента Франка Рида, коренным в этой тройке был, как это ни странно, я сам; и я вспоминаю, как покойная Ольга Кроткая однажды рассказала мне, что среди полусотни профессоров Школы ускоренного изучения языков, где во время войны этой бедной даме об одном легком пришлось преподавать летейский и гречневый языки, было целых шестеро Пниных, помимо подлинного и, на мой взгляд, неповторимого экземпляра. Поэтому не приходится удивляться, что даже Пнин, в повседневной жизни человек не особенно наблюдательный, не мог не заметить (на девятом году своего пребывания в Вэйнделе), что долговязый пожилой господин в очках, с профессорской, стального цвета прядью, спадавшей на правую сторону его небольшого, но морщинистого лба, с глубокими бороздами, сбегавшими от его острого носа к углам длинной верхней губы, — человек, известный Пнину как профессор Томас Д. Войнич, заведующий кафедрой орнитологии, с которым он как-то в одной компании беседовал о веселых иволгах, меланхолических кукушках и других русских лесных птицах, — что он не всегда бывал профессором Войничем. Время от времени он как бы перевоплощался в кого-то другого, кого Пнин не знал по имени, но именовал про себя, с характерной для иностранца наклонностью к каламбурам, «Двойничем». Мой друг и соотечественник скоро сообразил, что никогда он не может сказать наверное, действительно ли этот похожий на филина, быстро шагающий господин, с которым он каждый день сталкивался в разных точках своих хождений между кабинетом и классной комнатой, между классной комнатой и лестницей, между фонтанчиком питьевой воды и уборной, — был его случайный знакомый, орнитолог, с которым он полагал своим долгом здороваться, проходя мимо, или то был похожий на Войнича незнакомец, отвечавший на эти унылые приветствия с точно тою же машинальной любезностью, с какой бы это делал и любой случайный знакомый. Самая встреча обыкновенно бывала очень краткой, потому что и Пнин, и Войнич (или Двойнич) шагали шибко; и порою Пнин, чтобы избежать этого обмена учтивым лаем, делал вид, что читает на ходу письмо или изловчался улизнуть от быстро приближавшегося коллеги и мучителя, сворачивая на лестницу и затем продолжая свой путь по коридору нижнего-этажа; но едва успел он обрадоваться хитроумию своей уловки, как, воспользовавшись ею однажды, он едва не столкнулся с Двойничем (или Войничем), тяжело топавшим по коридору этого нижнего этажа. Когда начался новый осенний семестр (для Пнина десятый), неловкость положения еще усугубилась тем, что изменились классные часы Пнина, упразднив тем самым некоторые маршруты, на которые он разсчитывал в своих усилиях избегать Войнича и того, кто прикидывался Войничем. Казалось, он должен будет навсегда примириться с этим положением. Припоминая некоторые другие раздвоения, случавшиеся в прошлом, — обезкураживающие сходства, которые он один замечал, — озабоченный Пнин не сомневался в том, что было бы безполезно просить посторонних помочь ему разобраться в этих Т. Д. Войничах.