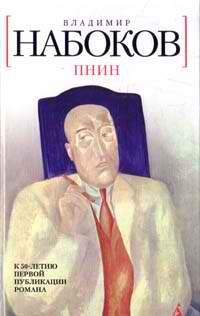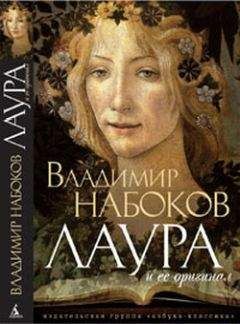Только что Клементсы расположились, как Бетти впустила человека, интересовавшегося птицеобразными пирогами. Пнин хотел было сказать «Профессор Войнич», но на его беду Джоана прервала его возгласом: «Да мы знаем Томаса! Кто ж не знает Тома?» Тим Пнин вернулся на кухню, а Бетти предложила гостям болгарские папиросы.
— А я полагал, Томас, — заметил Клементс, закладывая одну жирную ногу на другую, — что вы теперь в Гаване интервьюируете лазающих на пальмы рыбаков.
— Я и поеду, только после зимних экзаменов, — сказал профессор Томас. — Собственно, большая часть полевых исследований уже проделана другими.
— А все-таки признайтесь, приятно было получить эту субсидию?
— В нашей области, — невозмутимо ответил Томас, — приходится часто ездить в нелегкие экспедиции. Меня может даже занести к Наветренным островам. Если, — добавил он с глухим смешком, — сенатор Мак-Карти не прихлопнет вообще заграничные путешествия.
— Он получил пособие в десять тысяч долларов, — сказала Джоана Бетти, лицо которой сделало реверанс, то есть она скорчила ту особенную гримаску (медленный полукивок и натянутые подбородок и нижняя губа), которая на мимическом языке женщин, подобных Бетти, неизменно означает, что она почтительно, поздравительно, с примесью благоговения принимает к сведению такие грандиозные события, как обед с начальником, публикацию имени в справочнике «Кто — Что»[43] или знакомство с герцогиней.
Тэеры, прибывшие в недавно купленном автомобиле семейного типа, преподнесли хозяину изящную коробку мятных леденцов в шоколаде. Д-р Гаген, добравшийся пешком, триумфально потрясал бутылкой водки.
— Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, — сказал добродушный Гаген.
— Доктор Гаген, — сказал Томас, пожимая ему руку, — надеюсь, г-н сенатор не видел, как вы расхаживаете с этой бутылкой по городу[44].
Бравый доктор заметно постарел за последний год, но, как всегда, выглядел крепким и несколько квадратным из-за своих сильно подбитых плеч, квадратного подбородка, квадратных ноздрей, львиной переносицы и прямоугольной копны волос с проседью, чем-то напоминавших подстриженную купу дерева. На нем был черный костюм, белая найлоновая рубашка и черный галстук в красных молниях. К сожалению, у г-жи Гаген в самую последнюю минуту разыгралась ужасная мигрень и она не могла прийти.
Пнин принес коктэйли, «или, лучше сказать, — фламинго-тэйли[45], специально для орнитологов», сострил он с лукавой улыбкой.
— Благодарю вас, — пропела г-жа Тэер, принимая свой стакан и поднимая выщипанные в нитку брови, с той радушной жеманно-вопросительной интонацией, которая должна была означать смесь удивления, признательности за незаслуженное внимание и удовольствия. Привлекательная, чопорная, розовощекая дама лет сорока, с жемчужными искусственными зубами и волнистыми позлащенными волосами, она была кузиной-провинциалкой элегантной, непринужденно державшейся Джоаны Клементс, которая изъездила весь мир, живала даже в Турции и Египте и была замужем за самым оригинальным и самым непопулярным профессором Вэйндельского университета. Тут следует помянуть добрым словом и мужа Маргариты Тэер, Роя, унылого и неразговорчивого преподавателя английской кафедры, которая за вычетом ее кипучего заведующего Коккереля была прибежищем ипохондриков. Внешность у Роя была вполне заурядная. Если нарисовать пару старых желтых туфель, две заплаты из бежевой кожи на локтях[46], черную трубку и два набрякших глаза под тяжелыми бровями, то прочее легко будет заполнить. Где-то посередке маячила какая-то редкая болезнь печени, а где-то на заднем плане была поэзия восемнадцатого века, отъезжее поле Роя — сильно общипанный выгон с еле слышным ручьем и с островком деревьев с вырезанными на стволах инициалами; это поле по обе стороны отгорожено было колючей проволокой от владений профессора Стоу (предыдущее столетие), где ягнята были побелей, дерн помягче, ручей говорливей, и от начала девятнадцатого века д-ра Шапиро, с дымкой в лощинах, морскими туманами и заморским виноградом. Рой Тэер, избегавший говорить о своем предмете, и вообще избегавший разговоров о каком бы то ни было предмете потратил десять лет однообразной жизни на ученый труд о забытой группе никому не интересных рифмоплетов и вел подробный зашифрованный дневник в стихах, который, как он надеялся, когда-нибудь смогут разобрать потомки и по трезвом размышлении, задним числом объявят его величайшим литературным достижением нашего времени, — и почем знать, Рой Тэер, вы может быть окажетесь правы.
Когда все принялись уютно потягивать да похваливать коктэйли, профессор Пнин присел на охнувший пуф подле своего нового друга и сказал:
— Я имею доложить вам, сударь, об этих скайларках, а по-русски — жаворонках, о которых вы изволили спрашивать меня. Вот возьмите это с собой домой. Я тут отстукал на пишущей машине краткое резюме с библиографией. Я думаю, мы теперь перейдем в другую комнату, где нас, кажется, ждет ужин à la fourchette.
Вскоре гости с полными тарелками снова переместились в гостиную. Явился пунш.
— Ба, Тимофей, откуда у вас эта просто божественная чаша! — воскликнула Джоана.
— Мне подарил ее Виктор.
— Но он-то где же нашел ее?
— В антикварном магазине в Крантоне, наверное.
— Да ведь она, должно быть, стоит кучу денег.
— Один доллар? Десять долларов? Меньше, быть может?
— Десять долларов — вздор какой! Две сотни, я бы сказала. Да вы взгляните на нее как следует! Взгляните на этот вьющийся узор. Знаете что, вам нужно показать ее Коккерелям. Они знают толк в старинном стекле. У них есть Дунморский кувшин, но он кажется бедным родственником этой чаши.
Маргарита Тэер в свою очередь полюбовалась чашей и сказала, что в детстве ей казалось, что стеклянные башмачки Золушки именно этого зеленовато-синего оттенка, на что профессор Пнин заметил, что, primo, он хотел бы, чтобы каждый сказал, так же ли хорошо содержимое сосуда, как и содержащий его сосуд, и что, secundo, башмачки Сандрильоны сделаны не из стекла, а из меха русской белки — vair по-французски. Это, сказал он, типичный пример выживания более жизнеспособного слова, ибо verre[47] лучше запоминается, чем vair, которое, по его мнению, происходит не от varius, пестрый, а от веверицы, славянского слова, означающего красивый, бледный мех, как у белки зимой, с голубоватым, или, лучше сказать, сизым, колумбиновым оттенком — от латинского columba, голубь, как кое-кому здесь должно быть хорошо известно — так что, как видите, госпожа Файр, вы были, в сущности, правы.
— Содержимое превосходно, — сказал Лоренс Клементс.
— Этот напиток просто упоителен, — сказала Маргарита Тэер.
(«Я всегда полагал, что „колумбина“ — это какой-то цветок», — сказал Томас Бетти, и та не задумываясь согласилась.)
Затем стали сопоставлять возраст нескольких детей присутствовавших. Виктору скоро пятнадцать. Айлине, внучке старшей сестры г-жи Тэер, было пять. Изабелле было двадцать три, и ей очень нравилась ее секретарская должность в Нью-Йорке. Дочери д-ра Гагена было двадцать четыре года, и она должна была вот-вот вернуться из Европы, где великолепно провела лето, разъезжая по Баварии и Швейцарии с очень милой старой дамой, Дорианной Карен, знаменитой фильмовой звездой двадцатых годов.
Раздался телефон. Кому-то нужно было поговорить с г-жой Шеппард. С совершенно необычной для него в таких случаях обстоятельностью непредсказуемый Пнин не только отрапортовал ее новый адрес и номер телефона, но еще и присовокупил те же сведения о ее старшем сыне.
К десяти часам, благодаря пнинскому пуншу и беттиному скотчу, иные из гостей заговорили громче, чем это им казалось. Карминовый румянец залил одну сторону шеи г-жи Тэер под синей звездочкой ее левой серьги, и, сидя очень прямо, она угостила своего хозяина повествованием о распре между двумя ее коллегами по библиотеке. То была зауряднейшая конторская история, но перепады ее голоса от барышни Пищалкиной к г-ну Басову и потом сознание того, что вечер удался, заставляли Пнина восторженно хохотать в ладошку, наклонив голову. Рой Тэер слабо подмигивал самому себе, глядя в пунш вдоль своего серого пористого носа, и вежливо внимал Джоане Клементс, которая, когда бывала немного навеселе, как сегодня, имела прелестную привычку быстро-быстро моргать или даже вовсе прикрывать свои отороченные черными ресницами синие глаза и прерывать течение фразы (чтобы отделить придаточную или заново разогнаться) глубокими добавочными придыханиями: «Но не кажется ли вам — хох — что он — хох — практически во всех своих романах — хох — пытается — хох — показать причудливое повторение некоторых положений?» Бетти сохраняла присутствие своего небольшого духа и умело следила за распределением съестного. В нише Клементс мрачно вращал медлительный глобус, между тем как Гаген, тщательно избегая некоторых традиционных интонаций, к которым прибег бы в более интимной компании, рассказывал ему и ухмыляющемуся Томасу свежую историйку про г-жу Идельсон, поведанную г-жой Блорендж г-же Гаген. Пнин подошел к ним с тарелкой нуги.