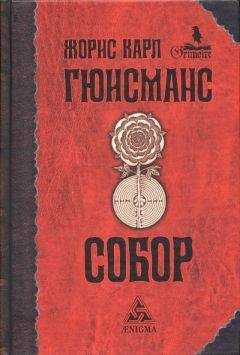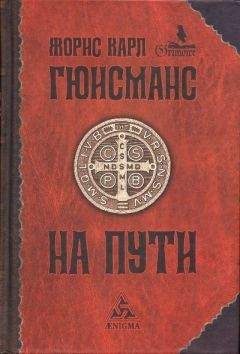И хотя этим построениям не хватало чувства меры, в них с необыкновенной проницательностью давался анализ "скупости", "заурядности", "моды", "страсти быть несчастным", а также проводилась весьма любопытная аналогия между работой памяти и принципом фотографии.
Искусством анализа, украденным им у врагов церкви, Элло владел в совершенстве. Однако был он не только виртуозным аналитиком.
Существовало еще одно его лицо. Когда оно проступало в нем, то возникал фанатик веры, библейский пророк.
Как и Гюго, которого он напоминал зигзагами своих мыслей и фраз, Эрнест Элло любил примерять одежды св. Иоанна Богослова. И витийствовал и вещал Элло с Патмоса улицы Сен-Сюльпис. И взывал к читателю гласом Апокалипсиса, а местами плакал горькими слезами Исайи.
Что говорить, притязания Элло были непомерны, но некоторые из сочувствующих ему кричали "гениально!" и доказывали, что он "великий человек, столп современной науки". Может, оно и так, да только внутри этот столп — сплошная червоточина.
В книге же "Глаголы Божьи", где толкование Евангелия способно затемнить даже его самые понятные места, равно как и в. сочинении под названием "Человек" и написанном по-пророчески порывисто и не всегда ясно трактате "День Господень", Элло предстает горделивым и желчным апостолом мщения, бьющимся в припадке мистической падучей дьяконом-эпилептиком, — этаким даровитым де Местром, злобным и свирепым сектантом.
Из-за этой болезненной распущенности, считал дез Эссент, казуист в Элло и брал верх над творческой личностью. Он был еще нетерпимее Озанама и, отрицая все, что не принадлежало к его владениям, утверждал аксиомы самые невероятные. Он поразительно властно, не допуская и тени сомнения, заявлял, что геология "вновь повернулась к Моисею", что естественная история и химия, подобно современной науке в целом, подтверждают научную непогрешимость Библии. На каждой его странице отстаивалась мысль о Божественной полноте истины. Ученость церкви объявлялась им сверхчеловеческой. И все это перемежалось более чем смелыми афоризмами, тогда как на искусство нынешнего века обрушивался поток хулы.
В сей странный сплав вкраплялась любовь к созерцанию и безмолвию. Поэтому он взялся за перевод "Видений" Анжело де Фолиньо[136], опуса на редкость тягучего и глупого, а также избранных сочинений Иоанна Рейсбрука Удивительного, мистика 13-го века, в чьей прозе странным, но вместе с тем завораживающим образом дополняли друг друга порывы веры, сладостные откровения, горечь отчаяния.
Элло написал к этой книге совершенно невразумительное предисловие, где принимал позу высокомерного верховного жреца и возвещал, что "о сверхъестественном можно говорить лишь косноязычно". И действительно впал в косноязычие, утверждая, что "священные сумерки, над которыми распростер свои орлиные крыла Рейсбрук, суть его удел, океан и слава, а четыре стороны света слишком тесны для его полета".
Но, как бы там ни было, дез Эссента влек этот тонкий, хотя и неуравновешенный, ум. Элло-психолог не был тождествен Элло-богомольцу — беспорядочность, даже бессвязность составляли все его своеобразие.
За Элло следовал целый строй, так сказать, церемониальных писателей-клерикалов. К основной части армии они не принадлежали, а служили как бы барабанщиками веры. Истинным талантам, подобно Вейо и Элло, церковь не доверяла, ибо они были бунтарями и оригиналами. В сущности, ей требовались солдаты, без всяких рассуждений выполняющие приказ, — та масса, о которой Элло говорил с яростью человека, испытавшего ее гнет. И потому католицизм отверг одного из самых горячих своих сторонников, неистового памфлетиста, писавшего как по-юношески задиристо и жестоко, так и до невозможности манерно, — Леона Блуа. По той же причине из всех католических издательств, будто прокаженный и несмотря на то, что как мог славил церковь, был изгнан другой писатель — Барбе Д'Оревильи[137].
По правде сказать, последний был слишком опасен, слишком строптив. Ведь остальные по большей части, получая выговор, стыдливо склоняли голову и смирялись. Этот же стал как бы церковным выродком, шалуном-проказником. Прямо-таки бегал за женщинами сомнительного поведения, в совершенно непотребном виде приводил их в святилище. И презрение к нему церкви — а подобный талант она всегда презирает — было поистине безгранично. Иначе по всем правилам предала бы она анафеме этого странного прихожанина, который бил в храме стекла, жонглировал дароносицами и пускался в неистовые пляски вокруг алтаря.
Две книги Барбе д'Оревильи особенно возбуждали дез Эссента: "Женатый священник" и "Дьявольские лики". Прочие вещи, такие, как "Околдованная", "Кавалер де Туш", "Старая любовница", конечно, были и ровнее, и в чем-то содержательнее, но оставляли дез Эссента холодным, поскольку интересовался он сочинениями нездоровыми — тронутыми упадком и болезнью.
В своих здоровых вещах Барбе лавировал, стараясь не впасть в две сообщающиеся между собой крайности католической веры — мистицизм и садизм.
Но в этих двух любимых дез Эссентом книгах он утрачивал всякую осторожность и, ослабляя поводья, мчал сломя голову, пока не застывал у самой бездны.
Мистический ужас средневековья витал над "Женатым священником". Книга была совершенно невероятной: колдовство соседствовало в ней с верой и заговор с молитвой, а Бог Карающий, не зная снисхождения, терзал и терзал проклятую им Калисту, начертав ей на лбу красный крест — тот самый, которым рукою ангела метил некогда жилища осужденных им на гибель нечестивцев.
Могло показаться, что задумал эту книгу измученный постами и горячкой монах, а писал буйный больной. Только, увы, помимо всех этих повредившихся в уме созданий, напоминавших сгоревшую в чахотке гофмановскую Коппелию[138], имелись и другие; подобные Неель де Неу, они были задуманы автором в момент, когда болезнь на мгновение отступила, и, совершенно не соответствуя общему мрачному безумию, невольно вносили в него комическую ноту, как это делает цинковая фигурка вельможи в мягких сапогах, которая трубит в рог на цоколе стенных часов.
Итак, после приступа мистической горячки у Барбе наступал период относительного спокойствия, но затем снова приходил черед нового.и еще более ужасного приступа.
Вера в то, что человек — буриданов осел и борются в нем два различных, но равных по силе и поочередно побеждающих начала; что человеческая жизнь — поле вечной борьбы добра и зла; что возможна вера одновременно и в Сатану, и в Христа — все это неизбежно вело к разладу души, когда она, изнемогая от тяжести борьбы, угроз и ожиданий, в конце концов отказывается от сопротивления и отдается во власть тому, кто приступал к ней с большим упорством.
В "Женатом священнике" Барбе славословит победившего Христа. Но в "Дьявольских ликах" верх берет дьявол, и его хвалит Барбе. Так возникает садизм, побочный плод веры, с которым католицизм на протяжении многих столетий боролся посредством костров и эксорсизма.
Это удивительное, почти не поддающееся определению состояние не может, однако, овладеть неверующим. Ведь оно не в телесных пороках и бесчинствах, не в кровавом насилии — в этом случае речь шла бы только об отклонении от нормы, о сатириазисе в крайней его форме. Нет, подобное трудноопределимое состояние — в нравственном мятеже, умственном распутстве, богохульстве, в повреждении высшего, христианского, рода. Это состояние — в наслаждении, обостренном страхом, и подобно радости ребенка, который, ослушавшись родителей, играет какой-то вещицей только потому, что они строго-настрого запретили ее трогать.
И в самом деле, нет богохульства — нет и условий для садизма. С другой стороны, богохульство и материи, ему подобные, имеют религиозные истоки, а значит, именно верующий отваживается на них, и отваживается намеренно, ибо что за сладость осквернять закон, который и не дорог тебе, и неведом.
Сила садизма, привлекательность его заключена, стало быть, в запретном наслаждении воздать сатане хвалы и молитвы, должные Господу, то есть ослушаться заповедей, даже исполнить их наоборот, содеять во глумление над Христом грехи, прежде прочих осужденные Им, — богохульство и блуд.
В сущности, явление, которому маркиз де Сад дал свое имя, старо, как церковь: уже в 13-м веке, если не раньше, оно как очевидный феномен атавизма существовало в кощунственных средневековых шабашах.
Стоило только заглянуть в "Malleus maleficarum", чудовищный кодекс Якоба Шпренгера[139], позволивший церкви отправить на костер тысячи некромантов и колдунов, — и дез Эссент узнавал в шабаше все непотребство и кощунство садизма. Но, помимо мерзостей на радость лукавому — ночей совокупленья, ночей, поочередно посвященных то блуду "дозволенному", то извращенному, — дез Эссент различал тут помимо звериной случки, еще и нечто иное: пародию церковной службы. Бога хулили, оскорбляли, сатане молились и, проклиная священные хлеб и вино, служили черную мессу на спине стоявшей на четвереньках женщины. Ее обнаженное, полное скверны тело было алтарем, а его служители причащали, для пущего смеха, черной облаткой с изображением козла.