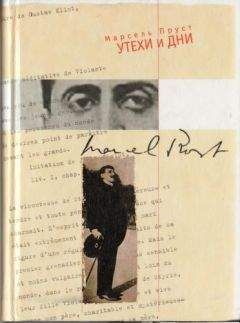Г-жа Сон много принимала в этот и в минувшие годы, но ее салон был закрыт в течение трех предшествовавших лет, т. е. тех, что последовали за смертью Оноре де Танвр.
Друзья Оноре, которые радовались, замечая, что ему мало-помалу возвращалась его прежняя веселость, постоянно встречали его теперь в обществе г-жи Сон и объясняли его выздоровление этой связью, считая ее совсем недавней.
Несчастный случай в аллее булонского леса, в результате которого у Оноре обе ноги оказались переломанными, произошел через каких-нибудь два месяца после его полного выздоровления.
Это случилось в первый вторник мая; перитонит был обнаружен в воскресенье, а в понедельник в шесть часов вечера Оноре не стало. Но в промежуток между вторником, днем, когда это случилось, и вечером воскресного дня, он, единственный из всех, считал себя обреченным.
Во вторник, часов около шести вечера, после того, как наложили первую повязку, он попросил оставить его одного и принести ему визитные карточки тех, кто уже приходил справиться о его состоянии.
Еще утром, часов восемь тому назад, он прошел вниз по аллее Булонского леса. Он вбирал в себя и с радостью выдыхал свежий воздух; в глубине женских глаз, с восхищением следивших за ним, он открыл ту же глубокую радость, какая окрашивала сегодня солнце, тени, небо, камни, западный ветер и деревья, деревья величественные, как мужчина, и спокойные, как женщины, погрузившиеся в дремоту.
Он посмотрел на часы, повернул обратно и тогда… тогда-то это и случилось. Лошадь, приближения которой он не заметил, сломала ему обе ноги. Неизбежности этого он не чувствовал. В это мгновение он мог быть немного дальше или ближе, лошадь могла бы свернуть в сторону; если бы пошел дождь, он вернулся бы домой раньше и, не посмотри он на часы, не повернул бы обратно, а пошел бы к водопаду.
Но тем не менее все, что могло бы, казалось, и не произойти, все, что можно было принять за сон, все это было действительностью, и, напрягши всю свою волю, изменить этого он не мог. У него были сломаны ноги и повреждены внутренние органы. О, случай не представлял собой ничего необычайного! Он вспомнил, что около недели назад за обедом у доктора С. говорил о К., которого точно так же изувечила мчавшаяся лошадь. Доктор на вопрос о состоянии здоровья К. ответил: «Его дело плохо». Оноре не удовлетворился этим, стал расспрашивать о ране, и доктор ответил с видом важным и меланхоличным: «Но тут дело не в одной только ране; важно все в целом; его сыновья доставляют ему огорчения; он потерял прежнее свое положение; нападки газет были для него ударом. Я хотел бы, чтобы мое мнение оказалось ошибочным, но, по-моему, его дело скверно». А затем, так как сам доктор чувствовал себя отлично, так как Оноре знал, что Франсуаза любит его все больше и больше, что свет принял их связь и преклоняется пред их счастьем не менее, чем пред величием характера Франсуазы; так как, наконец, жена доктора С., взволнованная предстоящим печальным концом и заброшенностью К., не позволяла, из соображений гигиенических, ни себе, ни своим детям думать о грустных событиях и присутствовать на похоронах, все повторили в последний раз: «Бедный К., его дело скверно», и выпили по последнему бокалу шампанского; и по удовольствию, какое они при этом испытывали, они заключили, что «их дела» отличны.
Но увы, здесь было совсем не то! Оноре, чувствуя себя теперь поглощенным мыслью о своем несчастье, как часто он бывал поглощен мыслью о несчастье чужом, уже не мог отнестись ко всему, как тогда. Он чувствовал, как ускользает из-под ног почва — здоровье, почва, на которой произрастают наши самые высокие решения и наши радости, самые светлые, подобно тому, как в черной и влажной земле укрепляют свои корни дубы и фиалки. И он спотыкался в себе самом на каждом шагу. Говоря о К. на том обеде, доктор сказал: «Еще до несчастного случая, после того, как начались газетные нападки, я встречал К.; он пожелтел, глаза у него впали, вид у него был отвратительный». И доктор провел рукой, славившейся своей ловкостью и красотой, по холеной бороде, и каждый с удовольствием представил себе свой собственный здоровый, прекрасный вид. Теперь, глядя в зеркало, Оноре пугался, что так «пожелтел», и своего «отвратительного вида». И сейчас же мысль, что доктор скажет о нем столь же равнодушно то же, что и о К., испугала его. Даже знакомые, которые придут к нему, исполненные сострадания, скоро отвернутся от него, как от чего-то, для них гибельного; в конце концов они подчинятся протесту своего цветущего здоровья, желания быть счастливым и жить. Затем он стал думать о Франсуазе, и, согнув плечи, помимо воли опустив голову, понял с бесконечной и покорной печалью, что нужно от нее отказаться. Он почувствовал, каким жалким стало его тело; и ему захотелось плакать.
Вдруг он услышал стук в дверь. Ему подали визитные карточки, которые он просил принести. Он был уверен в том, что придут справиться о его здоровье, ибо знал, что положение его серьезно, но все-таки никак не ожидал такого количества карточек и испугался, увидев, что столько людей, которые едва-едва его знали, могли побеспокоиться разве только в случае его свадьбы или похорон. Это была целая гора карточек, и лакей изо всех сил старался, чтобы они не посыпались с подноса. Но когда все эти карточки были около него — гора эта показалась до смешного маленькой, во много раз меньше, чем стул или камин. И вдруг он испугался еще больше и почувствовал себя до такой степени одиноким, что захотел развлечься: принялся лихорадочно читать имена; одна, две, три, ах, что это? Он вздрогнул и посмотрел еще раз: «Граф Франсуа де Гувр». Конечно, он должен был ждать, что г-н де Гувр придет узнать о его здоровье, но он давно уже не думал о нем, и тотчас же ему пришла на память фраза Бюивра: «Вот был же сегодня тот, кто не отказал себе в удовольствии! Это — молодой Франсуа де Гувр. Он уверяет, что она темпераментна. Но, говорят, она не особенно хорошо сложена. Де Гувр не захотел продолжать». И вновь, переживая всю прежнюю боль, которая в один миг поднялась со дна на поверхность его сознания, он подумал: «Если я обречен — теперь я этому только радуюсь. Быть неподвижным на протяжении стольких лет, все то время, что ее не будет около меня, видеть ее с другими! И как ей любить меня — безногого!?» Он вдруг остановился. «Ну, а после моей смерти?..»
Ей было тридцать лет. Наступил час… тот сказал, что «она темпераментна»… «Я хочу жить, я хочу жить и хочу ходить, хочу следовать за ней повсюду! Хочу быть красивым, хочу, чтобы она любила меня!»
В этот момент ему стало страшно; он слышал свое свистящее дыхание; он почти не мог дышать — задыхался. Пришел доктор. Оказалось, что это легкий приступ астмы. Доктор ушел, он стал еще печальней; он бы предпочел, чтобы это оказалось чем-нибудь более серьезным, и хотел, чтобы его жалели. Ибо он чувствовал, что то, другое, — серьезно, чувствовал, что должен умереть. Теперь он вспоминал все физические страдания своей жизни и сокрушался; никогда любившие его люди не жалели его на том основании, что он был нервным. В страшные дни наступившие для него после его ночного возвращения домой с Бюивром, — в те дни, когда он одевался в семь часов утра, предварительно промаршировав целую ночь по улицам — его брат, просыпавшийся на четверть часа по ночам после чересчур обильного ужина — говаривал ему:
— Ты слишком прислушиваешься к себе; и со мной бывает, что я не сплю по ночам. К тому же это только кажется, что совсем не спишь, на самом деле все-таки спишь.
Это верно, что он слишком прислушивался к себе; всегда он слышал зов смерти — зов, который словно подтачивал его жизнь. Теперь астма его усиливалась. Он не мог перевести дыхание и делал мучительные усилия, чтобы дышать. И он чувствовал, что завеса, скрывающая от нас жизнь, раздвигается, обнажая притаившуюся смерть, он чувствовал весь ужас того, что значит жить и дышать. Затем он мысленно перенесся к тому моменту, когда она утешится. Кто же будет тот другой? Неизбежность этого момента сводила его с ума от ревности. Он мог бы этот момент предотвратить, если бы остался жить, но он умирает, и что же? Она скажет, что уйдет в монастырь, а когда он умрет — она раздумает. Нет! Лучше знать и не дать себя дважды обмануть. Кто? Гувр, Алериувр, Бюивр, Брейв. Он всех их видел перед собой и, стискивая зубы, чувствовал страшное бешенство, которое должно было в этот момент исказить его лицо. Затем он как-то успокоился. Нет, только не эти! Только не жуир-кутила! Это должен быть человек, который будет ее действительно любить. Почему мне не хочется, чтобы это был кутила? Безумие с моей стороны задавать себе этот вопрос! Это так естественно! Я хочу, чтобы она была счастлива потому, что я люблю ее… люблю! — Нет, это не то! Вся суть в том, что я не хочу, чтобы возбуждали ее чувственность, чтобы доставляли ей больше наслаждения, чем доставлял я. Я хочу, чтобы ей давали любовь, но не хочу, чтобы ей доставляли наслаждение. Ей надо выйти замуж, ей надо хорошо выбрать… Все-таки это будет грустно.