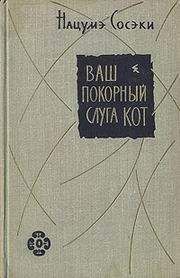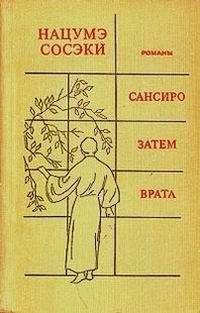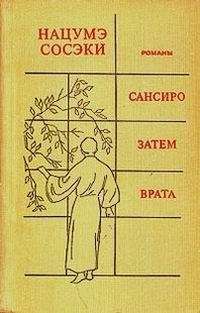Представ перед вдовой, я объяснил ей цель моего прихода. Вдова задала мне ряд вопросов: о мне самом, о том, где я учусь, о моей специальности. И в результате с готовностью заявила, что я могу переехать, когда мне угодно. Вдова была прямой женщиной, женщиной открытой. Я подумал, что, вероятно, все жены военных таковы, и проникся к ней почтением. Проникся почтением, но в то же время был этим и изумлён. Меня взяло сомнение, не скучен ли немного такой нрав?
XI
Я немедленно же перебрался в этот дом. Я снял ту самую комнату, в которой вёл разговор со вдовою во время моего первого прихода. Это была лучшая комната в доме. В те времена в Хонго одна за другой строились студенческие гостиницы, и я считал, что занимаю всегда самое лучшее помещение, какое может иметь студент. Но та комната, в которой я водворился новым хозяином, была даже гораздо лучше прежних. Переехав туда, я подумал, что для меня, студента, это даже слишком роскошно.
Величина комнаты равнялась восьми цыновкам[8]. Сбоку от главной ниши были устроены красивые полочки и шкафчики: в стене напротив наружной галлереи был вделан внутренний шкаф. Окон не было вовсе, но со стороны галлереи, обращённой на юг, всюду проникал солнечный свет. В день моего переезда в главной нише я увидел красиво подрезанные и уставленные цветы, а подле них было прислонено кото[9]. И то и другое мне не понравилось. Я был воспитан отцом, питавшим страсть к китайской поэзии, к книгам, к чайной церемонии и поэтому ещё с детских лет у меня были вкусы на китайский лад. В силу этого, повидимому, у меня и появилась сама собою привычка пренебрежительно относиться с подобным легковесным украшениям.
Вся обстановка, собранная моим отцом при его жизни, была, как и всё прочее, развеяна тем же дядею, но всё-таки кое-что ещё сохранилось. Уезжая с родины, я оставил всё это на хранение у своего приятеля. Четыре-пять картин, наиболее интересных, в числе прочего я привёз с собой на дне корзины. Я думал — как только я перееду, сейчас же выну их, повешу в парадной нише и стану любоваться. Но теперь, когда я увидел эти кото и цветы, у меня сразу пропала охота делать это. Впоследствии я спросил об этих предметах и узнал, что цветы были поставлены специально для меня; я улыбнулся при этом. Разумеется, кото стояло здесь ещё и раньше; его поневоле оставили тут, так как не было другого места.
Когда я рассказываю об этом, у вас в голове, естественно, мелькает, вероятно, облик молодой девушки. И у меня самого ещё до переезда туда уже шевелилось любопытство. Но потому ли, что моей естественности уже повредили различные мысли, или же оттого, что у меня не было ещё привычки к людям, только когда я в первый раз встретился с девушкой, я едва пробурчал приветствие. В ответ на это лицо девушки зарделось.
До этого момента я ясно рисовал себе эту девушку, исходя из облика и положения самой вдовы. И эти предположения были не очень для неё благоприятны. Мои предположения развивались в последовательном порядке: раз она жена военного — значит, она такая-то, а если девушка — её дочь, следовательно, она должна быть тоже такой же. Но все предположения мигом исчезли в тот самый момент, когда я увидел её. В меня проник аромат женщины, которого я до сих пор и не представлял себе. С этого момента цветы, стоявшие у меня в нише, перестали быть мне неприятными. Перестало точно также мешать мне и кото, стоявшее там же.
Когда эти цветы в положенный им срок увяли, их заменили другими. Кото также часто выносили в комнату наискось. Сидя у себя в комнате и опершись щекой на руку, я слушал звуки этого инструмента. Я плохо разбирался в том, хорошо она играет или нет. Но видя, что её техника не слишком сильна, я полагал, что девушка не очень искусна. В цветах я толк понимал, — и девушка в этой области была не из искусных[10].
И всё-таки она постоянно украшала мою нишу различными цветами. Впрочем, расположение и установка цветов всегда были одинаковыми. Не бывало и случая, чтобы переменили и вазу для цветов.
Музыка отличалась большим разнообразием, чем цветы. При этом девушка только касалась струн, голоса же не подавала. Петь она пела, но всегда тихо, как будто совершенно про себя. Однако, после того как она получила за это выговор, её совсем не стало слышно.
Я с удовольствием любовался этими неискусно поставленными цветами, с удовольствием прислушивался к звукам этого скверного кото.
XII
Уже при отъезде с родины я был настроен против людей. Мысль о том, что людям верить нельзя, проникла как будто в самые недра моего существа. Дядя, к которому я так враждебно относился, тётка, прочие родные являлись для меня представителями всех людей вообще. Когда я сидел в поезде, то и на соседей своих смотрел таким же образом. Если кто-нибудь изредка заговаривал со мной, я сейчас же весь настораживался. Сердце моё было погружено в мрак. Иногда на него давила какая-то свинцовая тяжесть и мои нервы обострялись до последней степени.
Такое моё состояние явилось главной, я думаю, причиной и того, что по приезде в Токио мне захотелось уехать из гостиницы. Дело дошло до того, что мне, имевшему средства, захотелось даже устроить себе отдельный дом. Будь я таким, как прежде, даже при наличии избытка средств в кармане я не пошёл бы с такой охотой на эти хлопоты.
И после того как я переселился в Коисикава, в течение некоторого времени я не мог внести спокойствие в своё напряжённое состояние. Я озирался вокруг себя с таким возбуждением, что самому становилось стыдно. И странно: во мне правильно функционировали только голова и глаза, язык же, наоборот, поворачивался всё с большим и большим трудом. Я молча сидел за своим столом, наблюдая, точно кот, всех обитателей дома.
Иногда мне самому становилось их жалко: с таким вниманием я наблюдал за ними. Я казался себе самому чем-то вроде карманного вора, который только что не ворует вещей, и от этой мысли я становился сам себе противен. Вам, по всей вероятности, покажется странным: каким это образом при таком моём состоянии мне могла нравиться девушка из этого дома? Как это могли нравиться её безвкусно поставленные цветы? Как мог я находить удовольствие в неискусной игре на кото?
В ответ на это мне ничего другого не остаётся, как только привести вам эти факты, потому что оба эти обстоятельства были на самом деле фактами. Толкование я предоставляю вам самим, — с вашим умом, — и только одно я хочу заметить: я сомневался в людях в смысле денежных вопросов, в отношении же любви я сомнений в людях ещё не имел. Поэтому, хоть другим это могло казаться странным, мне же самому — противоречивым, но только и то и другое мирно уживалось в моём сердце.
Я постоянно называл вдову хозяйкой и в дальнейшем буду употреблять это слово. Хозяйка называла меня тихим человеком, скромным. Хвалила, называя тружеником. Но она никогда не обмолвилась ни словом по поводу моего неспокойного взгляда, моей возбуждённости. Не замечала ли она, стеснялась ли говорить об этом — не знаю, но только она как будто совершенно не обращала на это внимания. Мало того, как-то раз она назвала меня „человеком беззаботным“ и то, как она это сказала, прозвучало как будто каким-то признаком уважения. Будучи тогда ещё вполне непосредственным, я немного покраснел и попробовал отрицать её слова. Тогда она серьёзным тоном пояснила:
— Вы так говорите, потому что сами этого не замечаете.
Хозяйка, как кажется, сначала не собиралась помещать в свой дом студента, подобного мне; она как будто хотела отдать комнату какому-нибудь служащему и в этом смысле просила посредничества у соседей. По её мнению, в таких частных пансионах поневоле должны были жить те, у кого было мало дохода, и эта мысль уже с давних пор укрепилась в её голове. Поэтому, сравнивая меня с тем типом жильца, который рисовало её воображение, она и прозвала меня человеком беззаботным. И в самом деле, по сравнению с тем, кто вёл заурядное существование, нуждаясь в деньгах, — это и было так. Но это не касалось вовсе вопроса о характере и совершенно не имело отношения к моей внутренней жизни. Хозяйка же, как женщина, распространила своё впечатление на всего меня в целом и хотела приложить ко всему одно и то же название.
XIII
Такое поведение хозяйки имело большое влияние на моё душевное состояние. Через некоторое время мои глаза уже перестали так бегать, как прежде. Моё сердце могло уже, — когда сидел у себя за столом, — обретать некоторое успокоение.
Одним словом, то, что все домашние, начиная с самой хозяйки, не считались с моими косыми взглядами и видом человека, подозрительно ко всем относящегося, было для меня большим счастьем. Нервы мои, не получая ответного раздражения от тех, с кем я сталкивался, мало-по-малу успокаивались.
Обращалась ли хозяйка так со мною нарочно, потому что была женщиной проницательной, или же она и вправду, как сама объявила, считала меня человеком совершенно беззаботным, я не знаю. Может быть, и моя возбуждённость и смятенность имели место только в моём мозгу и внешне особенно не проявлялась, поэтому она и сама была введена в заблуждение.