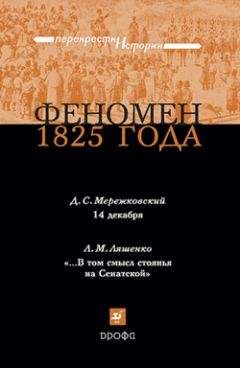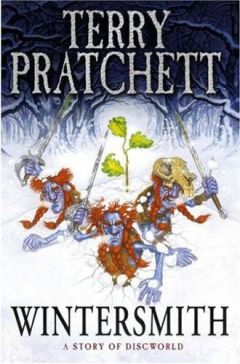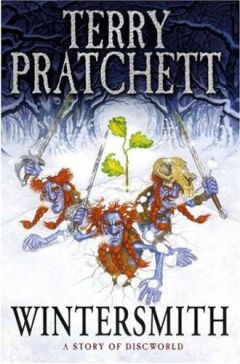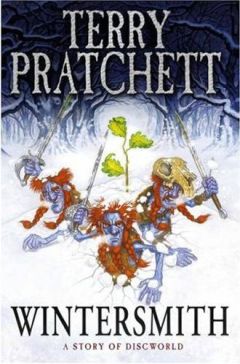– Любуюсь вами, государь. Недаром уподобляют ваше величество Аполлону Бельведерскому. Сей победил Пифона, змия лютого; вы же – революцию всесветную.
Разговор шел в приемной, между временным кабинетом – спальней государя и флигель – адъютантской комнатой, в Зимнем дворце, в ночь с 14-го декабря на 15-е.
Восемь часов провел государь на площади; устал, оголодал, озяб. Вернувшись во дворец и поужинав наскоро, после молебна тотчас принялся за допрос арестованных. В мундире Преображенского полка, в шарфе и в ленте, в ботфортах и лосинах, затянутый, застегнутый на все крючки и пуговицы, даже не прилег ни разу, а только иногда задремывал, сидя на кожаном диване с неудобной, выпуклой спинкой, за столом, заваленным бумагами.
Камер-лакей, неслышно крадучись, уже в третий раз входил в комнату, переменяя в углу, на яшмовом столике, канделябр со множеством догорающих свечей. На английских стенных часах пробило четыре. Бенкендорф поглядел на них с тоской: тоже вторую ночь не спал. Но продолжал говорить, чтоб не заснуть.
– Иногда прекрасный день начинается бурею, да будет так и в царствование вашего величества. Сам Бог защитил нас от такого бедствия, которое, если б не разрушило, то, конечно, истерзало бы Россию. Это стоит французского нашествия: в обоих случаях вижу блеск как бы луча неземного, – повторил он слышанные давеча слова Карамзина.
– Да, счастливо отделались, – сказал государь, чувствуя, что все еще сердце у него замирает, как у человека, только что перебежавшего по утлой дощечке над пропастью, и взглянул на Бенкендорфа украдкой, с тайной надеждой, не успокоит ли. Но тот как будто нарочно запугивал, оплетал липкой сетью страха, как паук – муху паутиной.
– Все на волоске висело, ваше величество. Решительные действия мятежников имели бы верный успех. Но, видно, Бог милосердный погрузил действовавших в какую-то странную нерешительность. Сколько часов простояли на площади в совершенном бездействии, пока мы всех нужных мер не приняли! А ведь опоздай саперы только на одну минуту, когда лейб-гренадеры уже во двор ворвались, – и в руках злодеев был бы дворец со всей августейшей фамилией. Ужасно подумать, что бы наделала сия адская шайка извергов, отрекшихся от Бога, царя и Отечества! Ужасно! Волосы дыбом встают, кровь стынет в жилах!
– Перерезали бы всех?
– Всех, ваше величество.
– А правда, что меня еще там, на площади, убить хотели?
– Да, еще там. Может быть, та самая пуля, коей пронзен Милорадович, предназначалась вашему величеству.
– А что, он еще жив?
– Кончается, едва ли до утра выживет. Антонов огонь в кишках.
Помолчали.
– Ну а как теперь, спокойно? – спросил государь и подумал, что слишком часто об этом спрашивает.
– Слава богу, пока что спокойно.
– Много арестовано?
– Сот семь человек нижних чинов, офицеров с десяток, да несколько каналий фрачников. Но это не главные начальники, а только застрельщики.
– И Трубецкой – не главный?
– Нет, государь, я полагаю, что дело это восходит выше…
– Как выше? Что ты разумеешь?
– Еще не знаю наверное, но опасаюсь, что важнейшие сановники, может быть, даже члены Государственного совета в этом деле замешаны.
– Кто же именно?
– Имен я бы не хотел называть.
– Имена, имена – я требую!
– Мордвинов, Сперанский…
– Быть не может! – прошептал государь и почувствовал, что сердце опять замирает, но уже не от прошлого, а от грядущего ужаса: через одну пропасть перебежал, а впереди зияет новая; думал, все уже кончено, – и вот, только начинается.
– Да, ваше величество, все может начаться сызнова, – угадал Бенкендорф, как будто подслушал.
– Сперанский, Мордвинов! Не может быть, – повторил государь; все еще пытался из липкой сети, как муха из паутины, выбиться. – Нет, Бенкендорф, ты ошибаешься.
– Дай-то бог, чтобы ошибся, государь!
Великий сыщик смотрел на Николая молча, тем же взором, видящим на аршин под землей, как тогда, накануне Четырнадцатого, и по тонким губам его скользила улыбка, едва уловимая. Вдруг стало весело – даже сон прошел. Понял, что дело сделано: из паутины муха не выбьется. Аракчеев был – Бенкендорф будет.
Вынул из кармана и положил на стол четвертушку бумаги мелко исписанной.
– Извольте прочесть. Прелюбопытно.
– Что это?
– Проект конституции Трубецкого, ихнего диктатора.
– Арестован?
– Нет еще. У шурина своего, австрийского посланника, Лебцельтерна спрятался. Должно быть, сейчас привезут… А кстати, насчет конституции, – усмехнулся Бенкендорф, как будто вдруг вспомнил что-то веселое, а может быть, и сжалился – захотел государя побаловать. – Когда пьяная сволочь сия кричала на площади: «Ура, конституция!» – кто-то спросил их: «Да знаете ли вы, дурачье, что такое конституция?» – «Ну, как же не знать, говорят: муж: – Константин, а жена – Конституция».
– Недурно, – усмехнулся Николай своею всегдашнею, как сквозь зубную боль, кривою усмешкою, а губы оставались надутыми, как у поставленного в угол мальчика.
Бенкендорф знал, чего государю нужно; знал, что он боится, ненавидит, а хочет презирать; неутолимо жаждет презрения. «Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Анекдот о конституции и был концом перста омоченного – прохлаждающим, но не утоляющим.
За дверью послышался шум. Из соседней залы Казачьего пикета во флигель-адъютантскую приводили под конвоем арестованных, и здесь допрашивали их генерал-адъютанты Левашов и Толь.
Бенкендорф подошел к дверям и приоткрыл их.
– Ишь, их сколько собралось, Пугачевых! – поморщился с брезгливостью.
Дворцовый комендант Башуцкий что-то шепнул ему на ухо.
– Кто? – спросил государь.
– Еще один каналья фрачник, сочинитель Рылеев. Допросить угодно вашему величеству?
– Нет, потом. Сначала – ты. Ну, ступай. О Трубецком доложи.
Когда Бенкендорф вышел, Николай откинул голову на спинку дивана, закрыл глаза и начал дремать. Но было неловко: голова скользила по гладкой спинке, а прилечь боялся, чтоб не заснуть. Подобрал ноги, сел в угол, съежился, хотел было расстегнуть на узко стянутой талии две нижние пуговицы, но подумал, что неприлично: имел отвращение к расстегнутым пуговицам. Склонил голову, оперся щекой о жесткую ручку и, хотя тоже было неудобно, резьба резала щеку, – опять начал дремать.
Вошел флигель-адъютант Адлерберг, высоко держа на трех пальцах, с лакейской ловкостью, поднос с кофейником. Государь всю ночь пил черный кофе, чтобы разогнать сон.
Вздрогнул, очнулся.
– Прилечь бы изволили, ваше величество.
– Нет, Федорыч, не до сна.
– Вторую ночь не спите. Этак заболеть можно.
– Ну что ж, заболею – свалюсь. А пока еще ноги таскают, держаться надо.
Налил кофею, отпил и, чтобы лучше разгуляться, принялся за письмо к брату Константину. Не мог вспомнить о нем без зубовного скрежета, но писал с обычной родственной нежностью.
«Дорогой, дорогой Константин, верьте мне, что следовать вашей воле и примеру нашего ангела, покойного императора, вот что я постоянно буду иметь в сердце. Аресты идут хорошо, и я надеюсь в скором времени сообщить вам подробности этой ужасной и позорной истории. Тогда вы узнаете, какую трудную задачу вы задали вашему несчастному брату и какого сожаления достоин ваш бедный малый, votre pauvre diable, votre каторжный du palais d'Hiver.[21]
Генерал Толь вошел с бумагами.
– Садись, Карл Федорович, читай.
Толь прочел показание Оболенского, арестованного вместе с Рылеевым.
– Как ты думаешь, можно простить нижних чинов и сих несчастных молодых людей? – спросил государь.
Уже не в первый раз об этом спрашивал. Толь ничего не ответил.
– Ах, бедные, несчастные! – тяжело вздохнул Николай. – Может быть, прекрасные люди. Ну за что их казнить? Мы все за них дадим ответ Богу. Их заблуждение – заблуждение нашего века. Не губить, а спасти их надо. Палач я, злодей, что ли? Нет, не могу, не могу, Толь. Разве ты не видишь, сердце мое раздирается…
«Расплачется!» – подумал Толь с отвращением, не зная, куда девать глаза. Слушал с терпеливой скукой на грубоватом, жестком и плоском, но честном, открытом лице старого прусского унтера. А государь долго еще говорил, болтал той болтовней чувствительной, которую получил в наследство от матери. Примеривал маску перед Толем, как перед зеркалом.
– Ну, так как же, мой друг, как ты думаешь, можно простить, а?
– Ваше величество, – не выдержал наконец Толь, даже крякнул и так повернулся, что стул под ним затрещал, – простить их вы всегда успеете, но доколь не открыты главные возбудители и подстрекатели сего злодеяния, не только офицеров, но и нижних чинов предать должно всей строгости законов без замедления… Какой номер повелеть изволите Оболенскому?
Государь замолчал, надулся, нахмурился; понял, что собеседник не желает быть зеркалом. Еще тяжелее вздохнул, пригорюнился, взял карандаш и план Петропавловской крепости, с рядами клеток, казематов, – каждая клетка под номером, – отметил одну из них красным крестиком, поставил номер в записке крепостному коменданту, генералу Сукину, и отдал молча Толю. Толь, также молча, взял, поклонился и вышел.