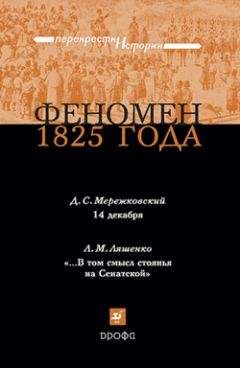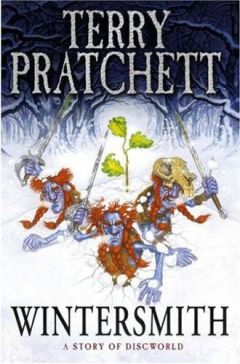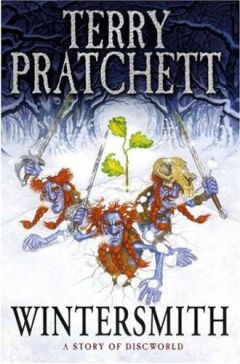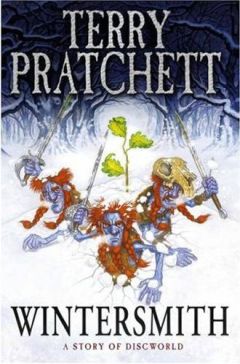Николай встал, подошел к Трубецкому, остановился и посмотрел на него молча, долго: рябоват, рыжеват; растрепанные жидкие бачки, оттопыренные уши, большой загнутый нос, толстые губы, по углам две морщинки болезненные.
«Так вот он каков, ихний диктатор! Трясется, ожидовел от страха», – подумал государь опять с неутолимою жаждою презренья.
Подошел ближе и поднял указательный палец правой руки против лба его.
– Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник князь Трубецкой, как вам не стыдно быть с этой сволочью?
Казался себе самому в эту минуту Аполлоном Бельведерским, разящим Пифона. Но одна маска упала, другая наделась; вместо грозной – чувствительная, та самая, которую примеривал давеча перед Толем.
– Какая милая жена! Есть у вас дети?
– Нет, государь.
– Счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасная, ужасная!
Несмотря на видимый гнев, был спокоен: все было заранее обдумано.
– Отчего вы дрожите?
– Озяб, ваше величество. В одном мундире ехал.
– Почему в мундире?
– Шубу украли.
– Кто?
– Не знаю. Должно быть, в суматохе, когда арестовали; много было народу, – ответил Трубецкой с улыбкой и поднял глаза: никакого страха не было в этих больших серых глазах, простых, печальных и добрых. Стоял, неуклюже сгорбившись, закинув руки за спину.
– Извольте стоять как следует! Руки по швам!
– Sire…
– Когда ваш государь говорит с вами по-русски, вы не должны сметь отвечать на другом языке!
– Виноват, ваше величество, руки связаны…
– Развязать!
Шульгин подошел и начал развязывать. Государь отвернулся и, увидев бумагу в руках Толя, сказал:
– Читай.
Толь прочел показания одного из арестованных, – чье не назвал, – что бывшее Четырнадцатого происшествие есть дело тайного общества, которое, кроме членов в Петербурге, имеет большую отрасль в четвертом корпусе, и что князь Трубецкой, дежурный штаб-офицер корпуса, может дать полные сведения.
Трубецкой слушал и радовался: понял, что показатель навел на ложный след, чтобы скрыть Южное общество.
– Это Пущина? – спросил Николай.
– Пущина, ваше величество, – ответил Толь. Трубецкой заметил, что перемигнулись.
– Ну, что вы скажете? – опять обернулся к нему государь.
– Пущин ошибается, ваше величество, – ответил Трубецкой, напрягая все силы ума, чтобы понять, что значит перемигивание.
– А-а, вы думаете, Пущина? – накинулся на него Толь.
Но Трубецкой не потерялся – уже понял, в чем дело: через него ловили Пущина.
– Ваше превосходительство сами изволили сказать, что Пущина.
– А где Пущин живет?
– Не знаю.
– Не у отца?
– Не знаю.
– Я всегда говорил, что четвертый корпус – гнездо заговорщиков, – сказал Толь.
– Ваше превосходительство имеет очень неверные сведения. В четвертом корпусе нет тайного общества, я за это отвечаю, – посмотрел на него Трубецкой с торжеством почти не скрываемым.
Толь замолчал с чувством охотника, у которого убежала дичь из-под носу. И государь нахмурился, тоже понял, что дело испорчено.
– Да сами-то вы, сами что? О себе говорите, принадлежали к тайному обществу?
– Принадлежал, ваше величество, – ответил Трубецкой спокойно: знал, что теперь уже не собьется.
– Диктатором были?
– Так точно.
– Хорош! Взводом, небось, командовать не умеет, а судьбами народов управлять хотел! Отчего же не были на площади?
– Видя, что им нужно одно мое имя, я отошел от них. Надеялся, впрочем, до последней минуты, что, оставаясь с ними в сношении, как бы в виде начальника, успею отвратить их от сего нелепого замысла.
– Какого? Цареубийства? – опять обрадовался, накинулся на него Толь.
«О цареубийстве никто не помышлял», – хотел ответить Трубецкой, но подумал, что это неправда, и сказал:
– В политических намерениях Общества цареубийства не было. Я хотел отвратить их от возмущения войск, от кровопролития ненужного.
– О возмущении знали? – спросил государь.
– Знал.
– И не донесли?
– Я и мысли не мог допустить, ваше величество, дать кому-либо право назвать меня подлецом.
– А теперь как вас назовут?
Трубецкой ничего не ответил, но посмотрел на государя так, что ему стало неловко.
– Да что вы, сударь, финтите? Говорите все, что знаете! – крикнул Николай грозно, начиная сердиться.
– Я больше ничего не знаю.
– Не знаете? А это что?
Быстро подошел к столу, взял четвертушку бумаги, проект конституции, – на письме лежала пуля, нарочно положил ее давеча, чтобы найти сразу.
– Этого тоже не знаете? Кто писал? Чья рука?
– Моя.
– А знаете, что я могу вас за это расстрелять тут же, на месте?
– Расстреляйте, государь, вы имеете право, – сказал Трубецкой и опять поднял глаза. Вспомнил: «На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?»
«Не надо сердиться! Не надо сердиться!» – подумал государь, но было уже поздно: знакомый восторг бешенства разлился по жилам огнем.
– А-а, вы думаете, вас расстреляют и вы интересны будете? – прошептал задыхающимся шепотом, приближая лицо к лицу его и наступая на него так, что он попятился. – Так нет же, не расстреляю, а в крепости сгною! В кандалы! В кандалы! На аршин под землею! Участь ваша будет ужасная, ужасная, ужасная!
Чем больше повторял это слово, тем больше чувствовал свое бессилие: вот он стоит перед ним и ничего не боится. Заточить, заковать, запытать, убить его может, а все-таки ничего с ним не сделает.
– Мерзавец! – закричал Николай, бросился на Трубецкого и схватил его за ворот. – Мундир замарал! Погоны долой! Погоны долой! Вот так! Вот так! Вот так!
Рвал, толкал, давил, тряс и, наконец, повалил его на пол.
– Ваше величество, – тихо сказал Трубецкой, стоя перед ним на коленях и глядя ему прямо в глаза. Государь понял: «Как вам не стыдно?» Опомнился. Оставил его, отошел, упал в кресло и закрыл лицо руками.
Все молча ждали, чем это кончится. Трубецкой встал и посмотрел на Николая с давешней тихой улыбкой. Если бы теперь тот увидел ее, то понял бы, что в этой улыбке – жалость.
Дверь из кабинета-спальни приотворилась. Великий князь Михаил Павлович осторожно высунул голову, заглянул и так же осторожно отдернул ее, закрыл дверь.
Молчание длилось долго. Наконец государь отнял руки от лица. Оно было неподвижно и непроницаемо.
Встал и указал Трубецкому на кресло у стола.
– Садитесь. Пишите жене, – сказал, не глядя на него. Трубецкой сел, взял перо и посмотрел на государя.
– Что прикажете писать, ваше величество?
– Что хотите.
Николай смотрел через плечо его на то, что он пишет. «Друг мой, будь покойна и молись Богу…»
– Что тут много писать, напишите только: «Я буду жив и здоров», – сказал государь.
Трубецкой написал:
«Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров».
– «Буду жив и здоров». Припишите сверху: «Буду». Он приписал. Государь взял письмо и отдал Шульгину.
– Извольте доставить княгине Трубецкой. Шульгин вышел. Трубецкой встал. Опять наступило молчание. Государь стоял перед ним, все не глядя на него, опустив глаза, как будто не смел их поднять. Сел за стол и написал коменданту Сукину: «Трубецкого в Алексеевский равелин, в номер 7». Отдал записку Толю.
– Ну, ступайте, – проговорил и поднял глаза на Трубецкого. – Прошу не прогневаться, князь. Мое положение тоже незавидно, как сами изволите видеть, – усмехнулся криво и опять покраснел, почувствовал, что ничего не выходит, надулся, нахмурился. – Ступайте, ступайте все! – махнул рукою.
Когда вышли, сел на диван, на прежнее место. Замер, не двигаясь, но уже не дремал, а широко открытыми глазами глядел прямо перед собой, в зеркало. На стене, над диваном, висел большой, во весь рост портрет императора Павла I. Пламя свечей, догоравших в углу, на яшмовом столике, колебалось, мигало, и в этом мигающем свете портрет в зеркале ожил, как будто зашевелился, – вот-вот из рамы выступит: в облачении госсмейстера Мальтийского ордена, в пурпурной мантии, подобии архиерейского саккоса, – маленький человек с курносым лицом, глазами сумасшедшего и улыбкой мертвого черепа.
Сын смотрел на отца, отец – на сына, как будто хотели друг другу что-то сказать.
11 марта – 14 декабря. Тогда началось – теперь продолжается. «Меня задушат, как задушили отца», – вспомнил Николай слова братнины. Мог бы сказать себе самому, как Трубецкому давеча: «Участь твоя будет ужасная, ужасная!»
Встал, подошел к зеркалу. Внизу, у ног отца, отразилось лицо сына. Бледное, с воспаленными красными веками, с губами надутыми, как у мальчика, поставленного в угол, с волосами взъерошенными, как будто вставшими дыбом. Казалось, что это не он, а кто-то другой – двойник его, «самозванец», «император-выскочка».
Приблизил лицо свое к зеркалу. Губы искривились в усмешку, зашептали беззвучным шепотом:
– Штабс-капитан Романов, а ведь ты…