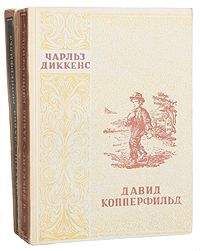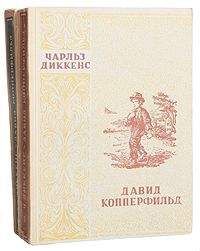Ясное спокойствие, с которым были сказаны эти слова, произвело на меня глубокое впечатление. В выражении лица мистера Спенлоу было что-то, напоминающее закат солнца. Он, повидимому, привел свои земные дела в полный порядок и готов был каждую минуту расстаться с земной жизнью. Да и сам отец Доры был взволнован: мне кажется, я видел слезинки, блеснувшие на его глазах.
Но что я мог поделать? Разве было мыслимо отречься от Доры, отречься от собственного сердца?! Когда мистер Спенлоу предложил мне в течение недели обдумать сказанное им, как мог я ответить, что не стану обдумывать, прекрасно зная, что никакие недели на свете не в силах повлиять на такую любовь, как моя?
— И в то же время посоветуйтесь с мисс Тротвуд или какой-нибудь другой особой с жизненным опытом, — добавил мистер Спенлоу, поправляя обеими руками галстук. — Да, мистер Копперфильд, подумайте хорошенько с недельку!
Сказав мистеру Спенлоу, что подчиняюсь его требованиям, я вышел из комнаты, изображая, насколько мог, на своем лице глубокую скорбь вместе с непоколебимой решимостью. Мисс Мордстон проводила меня до дверей своими злобными маленькими глазками, едва видневшимися из-под густых, нависших бровей. И вид у нее был совершенно такой же, как в дни моего детства в нашем блондерстонском доме, когда в ее присутствии я отвечал матушке свой урок. Пожалуй, на мгновение я даже мог бы вообразить, что тяжесть, навалившаяся на мою душу, не что иное, как несносная азбука с ее овальными картинками, которые мне, ребенку, казались стеклами, выпавшими из очков.
Придя в контору, я уселся в своем уголке и, склонившись на руки, чтобы не видеть ни старика Тиффи, ни других служащих, глубоко задумался о землетрясении, так неожиданно все всколыхнувшем.
В отчаянии проклиная Джипа, я так терзался за Дору, что просто не могу понять, как я тут не схватил шляпу и, словно безумный, не помчался в Норвуд. Мысль о том, что мою девочку совсем запугали, что она в одиночестве плачет, а я не могу быть с ней, до того терзала меня, что я, недолго думая, взялся писать безумное письмо мистеру Спенлоу, где заклинал его позаботиться о том, чтобы на Доре не отразилась моя ужасная судьба. Я молил его пощадить это нежное существо, этот хрупкий цветок. Вообще, помнится, я обращался к нему со своими мольбами так, словно он был не отцом Доры, а каким-то людоедом или драконом.
Письмо это я запечатал и положил на стол в его кабинете. Когда мистер Спенлоу вернулся, я через полуоткрытую дверь видел, как он распечатал и прочел мое послание.
В течение всего утра он не сказал мне ни слова, но днем, перед уходом из конторы, позвал меня в свой кабинет и заявил, что мне совершенно нечего беспокоиться о его дочери: он уже говорил с ней, уверил ее, что все это чистейший вздор, и больше этого вопроса он касаться не будет.
— Я очень снисходительный отец, — добавил он (несомненно, это было так), — и вам, мистер Копперфильд, вообще не о чем тревожиться. А вот если вы будете безумствовать или упрямиться, то, пожалуй, я буду принужден опять на некоторое время отправить дочь за границу. Но я лучшего мнения о вас: надеюсь, пройдет несколько дней, и вы станете благоразумнее. Что же касается мисс Мордстон (надо сказать, об этой особе упоминалось в моем письме), то я очень признателен ей за бдительный надзор за дочерью, но в то же время ей дан строгий приказ ни в коем случае не поднимать этого вопроса. Я желаю одного, мистер Копперфильд: чтобы история эта была предана забвению. Вам самому тоже нужно обо всем этом забыть. Это единственное, что вы можете сделать.
Все, что я могу сделать! Все!!!
В своей записке к мисс Мильс я с горечью привел эту фразу. Я писал ей с мрачным сарказмом: «От меня требуют очень немногого: всего лишь забыть Дору!!!». Я заклинал мисс Мильс повидаться со мной сегодня же вечером. Если это нельзя будет сделать в присутствии отца и с его согласия, я молил о тайном свидании в чулане за кухней, где стоит каток для белья. Я писал ей, что близок к сумасшествию и что она одна может поддержать меня. Подписался я: «Ваш безумный Копперфильд».
Перечитывая эту записку перед тем, как вручить ее рассыльному, я не мог не сознаться себе, что в ее стиле было нечто, напоминающее послания мистера Микобера. Тем не менее записка эта была послана. В назначенный час вечером я, конечно, был у дома, где жила мисс Мильс, и прогуливался там взад и вперед, пока мисс Мильс не выслала ко мне горничную, которая провела меня черным ходом в чулан за кухней. Потом я имел основания думать, что мог прекрасно пройти через парадный ход и даже преспокойно сидеть в гостиной, не будь мисс Мильс склонна к романтизму и таинственности.
Очутившись в чулане, я начал просто неистовствовать. Если я явился сюда разыграть роль дурака, то этого я вполне достиг. Мисс Мильс получила от Доры наспех нацарапанную записку, где та сообщала ей, что все открыто, и кончала фразой: «О Джулия! Умоляю вас, приезжайте ко мне, приезжайте!» Но мисс Мильс пока еще не была у Доры, боясь, что «высшие» власти посмотрят косо на ее появление. И все трое мы напоминали путников, потерявшихся в пустыне Сахаре…
Мисс Мильс обладала даром слова и любила открывать шлюзы своего красноречия. Я не мог не чувствовать, что проливая со мною слезы, она в то же время черпает в наших горестях какое-то наслаждение. Она словно лелеяла эти горести, раздувала их. По ее словам, глубокая пропасть разверзлась между мною и Дорой, и лишь одна любовь способна перебросить над этой пропастью свой мост — радугу. В этом суровом мире любви сопутствует страдание. Так всегда было, так всегда и будет.
— Но ничего, — добавила мисс Мильс, — в конце концов сердца разрывают опутывающую их паутину — и любовь торжествует.
Это, конечно, было слабым для меня утешением, но мисс Мильс не хотела поощрять обманчивых надежд. В результате всех ее речей я почувствовал себя еще более несчастным, но в душе решил и сейчас же с великой благодарностью высказал ей, что считаю ее своим настоящим другом. И мы уговорились с этим другом, что она завтра же утром отправится к Доре и уж умудрится — словом или взглядом — дать ей знать, как я люблю ее и как страдаю. Расстались мы, подавленные скорбью. Воображаю, какое наслаждение вкусила при этом мисс Мильс!
Вернувшись домой, я все рассказал бабушке, и, как ни старалась она утешить меня, я лег спать в отчаянии. И встал я утром в отчаянии и вышел из дому в отчаянии. Была суббота, и я прямо направился в «Докторскую общину».
Подходя к конторе, я удивился, увидев у дверей группу рассыльных, о чем-то говорящих между собой, и несколько зевак, заглядывающих в закрытые окна. Я быстро прошел мимо них и вошел в контору. Все писцы были налицо, но никто ничего не делал. Старик Тиффи, думаю — впервые за всю жизнь, сидел не на своем месте и до сих пор не повесил шляпу на вешалку.
— Какое страшное несчастье, мистер Копперфильд! — проговорил он, увидев меня.
— Что такое? Что случилось?! — воскликнул я.
— Разве вы еще не знаете? — крикнул Тиффи, а за ним все клерки, столпившиеся вокруг меня.
— Нет, ничего не знаю, — ответил я с тревогой, вопросительно переводя глаза поочередно на окружающие меня лица.
— Мистер Спенлоу… — начал старик Тиффи.
— Что с ним?
— Умер!
Мне показалось, что контора заходила вокруг меня, но это я зашатался, и один из писцов подхватил меня. Усадили меня на стул, развязали галстук и принесли стакан воды. Не имею ни малейшего представления, сколько времени это продолжалось.
— Так он умер? — проговорил я.
— Вчера он обедал в городе, — начал рассказывать Тиффи, — а вечером поехал в своем экипаже один, ибо кучера он, как иногда это делал, еще утром отослал домой дилижансом…
— Ну, и что же?
— Экипаж вернулся домой без него. Лошади остановились у дверей конюшни. Кучер вышел с фонарем, а в экипаже — никого.
— Лошади понесли? — спросил я.
— Нет, они не были разгорячены, — сказал Тиффи, надевая очки, — то есть я хочу сказать, они не были разгорячены больше, чем всегда после езды. Вожжи были порваны, но они, видимо, тащились по земле. Весь дом поднялся на ноги, и сейчас же трое слуг бросились искать мистера Спенлоу на Лондонской дороге. Они нашли его за милю от дома.
— Говорят, что дальше, — заметил один из младших писцов.
— Разве? Да, пожалуй, что и дальше, — согласился Тиффи, — ну, одним словом, недалеко от церкви. Он лежал ничком у дороги. Никто не знает, как это случилось, — вывалился ли он, когда его хватил удар, или вышел сам из экипажа, почувствовав себя плохо. И даже, кажется, никому не известно, подняли ли его уже мертвым, или он был еще в бессознательном состоянии. Во всяком случае, говорить он уже не мог. Его привезли домой, сейчас же послали за доктором, но это было уже бесполезно.
Не могу описать то состояние, в которое привела меня эта ужасная весть. Каждый поймет, что должен был почувствовать я, узнав о внезапной смерти человека, с которым только что перед тем у меня произошло столкновение. А тут еще эта наводящая страх пустота в кабинете, где вчера только он работал. Письменный стол, кресла… они словно ждут его. А уж последние строки, написанные вчера его рукой, так они положительно кажутся мне привидениями. Все чудится мне, что вот-вот откроется дверь и он войдет… Кругом же остановившаяся работа и мрачная тишина конторы, прерываемая шопотом писцов, — они никак не могут наговориться о печальном событии, — приход посторонних любопытных лиц и их расспросы — все это каждый легко может себе представить.