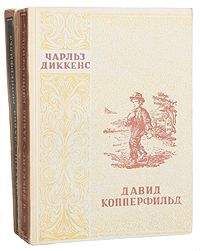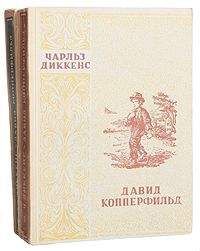Не могу описать то состояние, в которое привела меня эта ужасная весть. Каждый поймет, что должен был почувствовать я, узнав о внезапной смерти человека, с которым только что перед тем у меня произошло столкновение. А тут еще эта наводящая страх пустота в кабинете, где вчера только он работал. Письменный стол, кресла… они словно ждут его. А уж последние строки, написанные вчера его рукой, так они положительно кажутся мне привидениями. Все чудится мне, что вот-вот откроется дверь и он войдет… Кругом же остановившаяся работа и мрачная тишина конторы, прерываемая шопотом писцов, — они никак не могут наговориться о печальном событии, — приход посторонних любопытных лиц и их расспросы — все это каждый легко может себе представить.
Но что еще труднее описать, так это ту ревность, которую я чувствовал даже к смерти. Меня мучила мысль, что она, эта смерть, отодвинула меня у Доры на второй план. Я терзался мыслью, что она плачет не на моей груди, что не я ее утешаю. Я жаждал вырвать ее у всех и быть для нее всем в это тяжелое время.
В таком страшно подавленном душевном состоянии, — конечно, знакомом многим, — отправился вечером в Норвуд. Узнав от лакея, что мисс Мильс там, я вернулся домой, написал ей письмо и попросил бабушку надписать конверт своей рукой. В этом послании я горячо и искренне сожалел о столь безвременной кончине мистера Спенлоу и, когда писал, проливал слезы. Я умолял ее сказать Доре, если вообще бедняжка была в силах что-нибудь слышать, что ее отец говорил со мной с большой добротой и вниманием, а о ней упоминал с бесконечной нежностью, без единого слова упрека. Я знаю прекрасно, что в этом было много эгоизма: я добивался, чтобы при Доре упомянули мое имя, но тогда я старался себя уверить, что тут я хотел только воздать должную справедливость памяти мистера Спенлоу.
На следующий день я получил коротенький ответ, адресованный на имя бабушки. Мисс Мильс писала мне, что Дора совсем убита горем, а когда она спросила ее, не послать ли мне от нее привет, бедная девочка, плача (это она делала, не переставая), все только повторяла; «Дорогой мой папочка, бедный мой папочка!» Но все-таки Дора не сказала «нет», и это для меня уже было очень много.
Мистер Джоркинс, узнав о смерти своего компаньона, сейчас же поехал в Норвуд и пробыл там несколько дней. Явившись наконец в контору, он вместе с Тиффи заперся в кабинете мистера Спенлоу. Спустя несколько минут Тиффи показался в дверях и поманил меня.
— Видите ли, мистер Копперфильд, — обратился ко мне мистер Джоркинс, — мы с мистером Тиффи заняты осмотром ящиков письменного стола, конторки, вообще всех мест, где покойный хранил документы, чтобы опечатать его личные бумаги и разыскать духовное завещание, если таковое окажется. Пока мы не нашли его. Не будете ли вы так добры помочь нам в этом деле?
Я с удовольствием взялся за это.
С момента смерти мистера Спенлоу я жаждал узнать, в каком положении очутится теперь моя Дора, кто будет ее опекуном и тому подобное, а тут я мог кое-что выяснить. Мы немедленно принялись за поиски: мистер Джоркинс отпирал ящики шкафа и конторки, а мы вынимали оттуда бумаги. Документы «Докторской общины» мы клали в одну сторону, а личные бумаги покойного (их было немного) в другую. Работая, мы были настроены очень торжественно, а когда нам попадались печать, кольцо, пенал или вообще что-либо из вещей покойного, мы начинали говорить совсем тихо. Уже мы опечатали несколько пачек бумаг и молча продолжали работать среди пыли, как вдруг мистер Джоркинс заговорил о своем покойном компаньоне буквально в тех же самых выражениях, какие тот, помнится, употреблял, говоря о нем:
— Мистера Спенлоу трудно было заставить свернуть с намеченного им пути. Вы знаете, что это был за человек. Я лично склонен думать, что он не сделал завещания.
— О, я знаю, что оно было сделано, — возразил я.
И мистер Джоркинс и Тиффи бросили работу и с удивлением уставились на меня.
— Он сказал мне об этом, когда в последний раз мы виделись с ним, — пояснил я, — и еще прибавил, что вообще все его дела давно приведены в порядок.
Тут оба старика, словно сговорившись, покачали головами.
— Это предвещает мало хорошего, — заявил Тиффи.
— Даже очень мало, — подтвердил мистер Джоркинс.
— Надеюсь, вы не сомневаетесь… — начал я.
— Добрейший мистер Копперфильд, — перебил меня Тиффи, кладя мне руку на плечо, покачивая головой и закрывая глаза, — если бы вы с мое поработали в этой конторе, то знали бы, как мало предусмотрительны люди относительно своих духовных завещаний и как мало в этом случае следует верить их словам.
— Представьте! — с жаром воскликнул я. — Покойный мистер Спенлоу именно в тех же самых выражениях говорил мне об этом.
— Ну, тогда дело ясно, — отозвался Тиффи: — убежден, что завещания не существует.
Слова его очень меня удивили, но, действительно, духовного завещания найдено не было, и даже по состоянию бумаг мистера Спенлоу видно было, что он и не начинал ничего делать в этом направлении. Это, по правде сказать, меня сильно озадачило. Почти так же поразило меня и то, что все вообще дела покойного находились в полнейшем беспорядке. Трудно было выяснить, что был он должен, что им было уплачено и даже вообще каково было его состояние. Очень вероятно, что уже много лет он и сам хорошенько не отдавал себе в этом отчета.
Потом мало-помалу выяснилось, что покойный, в сущности, не так много зарабатывал, а, желая не отставать от своих товарищей по «Докторской общине», которые вели широкую жизнь, умудрился почти целиком прожить все свое состояние, повидимому, никогда не бывшее значительным. И вот все движимое имущество норвудского дома было продано с торгов, а дом сдан в аренду.
Однажды Тиффи, не подозревая, до чего я заинтересован во всем этом, сообщил мне, что, по его мнению, после уплаты всех долгов покойного хорошо, если останется всего-навсего тысяча фунтов стерлингов. Сказал он мне это недель через шесть после кончины мистера Спенлоу. Я все это время страшно терзался и даже подумывал о самоубийстве, когда мисс Мильс доносила мне, что попрежнему моя бедняжка Дора, когда ей напоминают обо мне, плачет и только повторяет: «О бедный папочка! О дорогой папочка!» Мисс Мильс также сообщила мне, что у Доры не было других родственников, кроме двух старых дев, сестер мистера Спенлоу. Жили эти тетки в пригороде Путней, и в течение многих лет у них с братом бывали только случайные встречи. По словам мисс Мильс, ссоры между ними, в сущности, не было; все вышло из-за того, что, когда крестили Дору, тетушек пригласили не на обед, как они ожидали, а только на чай. Тетушки обиделись и написали, что считают для обеих сторон лучше совсем не видеться, и с тех пор сестры жили своей жизнью, а брат — своей.
Теперь эти тетушки, покинув свое уединение, явились в Норвуд и предложили Доре жить с ними. Дора бросилась им на шею и, рыдая, воскликнула:
— Да, да, тетушки, милые, возьмите нас всех с собой: Джулию Мильс, и меня, и Джипа!
И вот вскоре после похорон они переселились к тетушкам в Путней.
Каким образом находил я время бывать в Путнее — и сам хорошенько не знаю, но только я довольно-таки часто бродил вокруг дома тетушек. Мисс Мильс, стремясь как можно добросовестнее выполнять обязанности, налагаемые дружбой, стала вести дневник. Иногда она заходила ко мне в «Докторскую общину» и читала его, а когда ей бывало некогда, оставляла мне свой дневник. Как было мне дорого каждое слово этого дневника! Привожу несколько выдержек из него:
Понедельник. Милая моя Д. все еще очень удручена. Головная боль. Я обратила ее внимание на то, как глянцовита шерсть Дж. Д. погладила Дж. Это по ассоциации пробудило в ней какие-то воспоминания — новый поток слез, а слезы не роса ли для сердца! Д. М.
Вторник. Д. слаба и нервничает. Как идет ей бледность! (То же можно сказать и о луне! Д. М.) Д., Д. М. и Дж. катались в карете, чтобы подышать воздухом. Дж., высунувшись из окна, так отчаянно лаял на рабочих, подметавших улицу, что заставил Д. улыбнуться. Из каких хрупких колец куется цепь жизни! Д. М.
Среда. Д. сравнительно весела. Я спела ей «Вечерний звон», как вещь, соответствующую ее настроению. Но эта песня не только не подействовала благотворно на ее душу, а еще больше расстроила ее. Д. убежала в свою комнату и там рыдала. Продекламировала ей стихи о юной газели, действия они не произвели. Д. М.
Четверг. Д, несомненно лучше. Она недурно спала. На щечках появился легкий румянец. Во время прогулки решилась упомянуть о Д. К. — Д. страшно взволновалась. «О, милая, дорогая Джулия, — закричала она, — какой была я скверной, непослушной дочерью!» Я успокаивала, ласкала ее, набросала ей поэтический образ Д. К. на краю могилы. Это снова страшно взволновало Д. «О, что мне делать? Что мне делать? — повторяла она. — Увезите меня куда-нибудь!» Д. очень перепугана, падает в обморок. Д. приведена в чувство благодаря принесенному из соседнего трактира стакану воды (вывеска этого трактира так же пестра, как, увы, и человеческая жизнь!) Д. М.