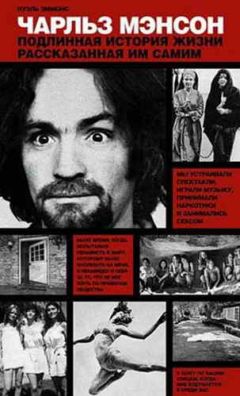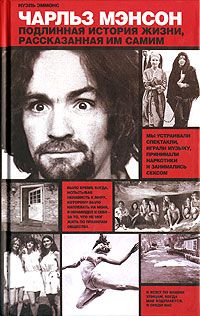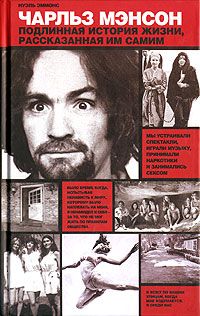— Ну-с, что же вам угодно? — спросил он.
— Стагм! — заорал Ченкин. — Давайте свидетельство о стагме. Какого черта вы меня дурачить вздумали? Я пятнадцать лет болею стагмом!
— А сейчас у вас его больше нет, — сказал Эндрью.
У открытых дверей собралась целая толпа. Он заметил голову Экхарта, с любопытством выглядывавшего из соседнего кабинета, Геджа, злорадно наблюдавшего всю эту суматоху сквозь свою решетку.
— В последний раз спрашиваю — дадите вы мне листок или нет? — прокричал Ченкин.
Эндрью вышел из себя.
— Нет, не дам! — заорал он в свою очередь. — И убирайтесь вон отсюда, пока я вас не выставил за дверь.
Грудь Бена ходила ходуном. Он посмотрел на Эндрью, словно хотел его уничтожить. Но затем опустил глаза, повернулся и, бормоча проклятия и угрозы, вышел.
В ту же минуту Гедж вышел из-за перегородки и развинченной походкой направился к Эндрью. Он с меланхолическим удовольствием потирал руки.
— А знаете, кого вы только что так отбрили? Это Бен Ченкин. Его сын — видный член комитета.
История с Ченкиным вызвала огромную сенсацию. Весь участок Мэнсона мигом загудел, как улей. Одни находили, что это «хороший урок», а некоторые даже — что это «чертовски хороший урок Бену, который постоянно плутует». Но большинство было на стороне Бена. Особенно злились на нового доктора те, кто до сих пор умудрялся, будучи здоровым, получать пособие по болезни и не работать. Обходя квартиры больных, Эндрью ощущал направленные на него угрюмые взгляды. А вечером в амбулатории столкнулся с еще более неприятным доказательством своей непопулярности.
Хотя каждому младшему врачу был отведен определенный участок, за рабочими, живущими в этом участке, сохранялось право выбирать себе любого врача. На каждого рабочего имелась карточка, и, чтобы переменить врача, ему нужно было только потребовать свою карточку и передать ее другому врачу. Этот-то позор и пришлось теперь испытать Эндрью. Всю неделю каждый вечер являлись в амбулаторию люди, которых он ни разу в глаза не видел (некоторые, не желая с ним встречаться, даже посылали вместо себя жен), и говорили, не глядя на него:
— Если вы ничего не имеете против, доктор, я возьму свою карточку.
Обида, унижение, когда нужно было доставать эти карточки из ящика, стоявшего у него на столе, были нестерпимы. И каждая отданная карточка означала вычет десяти шиллингов из его жалованья.
В субботу вечером Экхарт позвал его к себе в гости. Старый доктор, всю неделю ходивший с выражением самодовольства на своей желчной физиономии, прежде всего стал показывать гостю сокровища, собранные им за сорок лет практики. Среди них имелось штук двадцать желтых скрипок, все сделанных им самим и развешанных по стенам, но это было ничто в сравнении с его отборной коллекцией старого английского фарфора.
Коллекция была замечательная. Споуд, Веджвуд, Краун, Дерби и главное — старый Суонси. Тарелки, кружки, вазы, чашки и кувшинчики наводняли все комнаты в доме и даже ванную, так что Экхарт, совершая свой туалет, имел возможность с гордостью любоваться чайным сервизом с настоящим китайским рисунком.
Фарфор был страстью Экхарта, и старик был великий мастер добывать его. Увидав в доме какого-нибудь пациента «хороший экземплярчик», как он выражался, он все ходил и ходил к больному, проявлял неутомимую заботливость и, сидя у постели, с каким-то грустным упорством не сводил глаз с понравившейся ему вещи, пока, наконец, доведенная до отчаяния добрая хозяйка не восклицала:
— Доктор, вам, кажется, уж больно пришлась по вкусу эта штука. Не вижу, почему бы мне не подарить ее вам.
Экхарт начинал добродетельно отказываться, затем уносил свой трофей, завернутый в газету, а дома плясал от радости и бережно ставил его на полку.
Старый доктор слыл в городе чудаком. Он говорил, что ему шестьдесят лет, но было ему, вероятно, за семьдесят, а может быть, и немногим меньше восьмидесяти. Крепкий, как китовый ус, признававший лишь один способ передвижения — пешком, он проходил невероятные расстояния, зверски ругал пациентов и умел в то же время быть нежным, как женщина. Он жил один с тех пор, как одиннадцать лет тому назад похоронил жену, и питался почти исключительно консервированным бульоном.
В первый же вечер, с гордостью показывая Эндрью свои коллекции, он неожиданно сказал с оскорбленным видом:
— Черт побери, дружище, не нужны мне ваши пациенты. У меня своих довольно. Но что я могу сделать, когда они приходят и надоедают. Не могут же все они ходить в Восточную амбулаторию, это слишком далеко.
Эндрью покраснел. Он не находил, что сказать.
— Вам следует быть осмотрительнее, — продолжал Экхарт уже другим тоном. — Да, да, я понимаю, понимаю, вы желаете низвергнуть стены Вавилона... Я сам когда-то был молод. И все же действуйте медленно, не горячитесь, смотрите, куда прыгаете. Покойной ночи. Кланяйтесь вашей жене.
С этого вечера слова Экхарта всегда звучали в ушах Эндрью, и он всеми силами старался лавировать осторожнее. Но очень скоро случилась новая, еще большая неприятность.
В следующий понедельник он был вызван к Томасу Ивенсу на Сифен-роу. Ивенс, забойщик в угольных копях, обварил себе левую руку, опрокинув чайник с кипятком. Ожог был тяжелый, во всю руку, и особенно болезненный у локтя. Когда Эндрью пришел, ему сказали, что участковая фельдшерица, которая во время этого несчастного случая случайно оказалась поблизости, сделала Томасу перевязку, положив тряпку с жидкой известковой мазью, и ушла к другим больным. Эндрью осмотрел руку, старательно скрывая свой ужас при виде грязно сделанной перевязки. Уголком глаза он заметил стоящую тут же бутылку, заткнутую комком газетной бумаги и наполненную грязной беловатой жидкостью, в которой он уже мысленно видел кишевших бактерий.
— Сестра Ллойд сделала все как следует, правда, доктор? — спросил тревожно Ивенс. Это был темноглазый, очень нервный молодой человек. Жена его, стоявшая подле него и внимательно следившая за действиями Эндрью, была так же нервна и даже лицом немного походила на мужа.
— Отличная перевязка, — ответил Эндрью, усиленно изображая восхищение. — Я редко видывал более аккуратную работу. Но, конечно, это только первая помощь. Теперь мы, пожалуй, полежим немного пикриновой кислоты.
Он знал, что если не применить сейчас же антисептическое средство, то в руке почти несомненно начнется заражение крови. А тогда беда с локтевым суставом!
Муж и жена смотрели несколько недоверчиво, как он с тщательной осторожностью обмывал руку и накладывал мокрую пикриновую перевязку.
— Ну, вот и готово! — воскликнул он. — Теперь вам полегче, не так ли?
— Не знаю, как вам сказать, — промолвил Ивенс. — А вы уверены, доктор, что все обойдется благополучно?
— Безусловно. — Эндрью ободряюще улыбнулся. — Положитесь на меня и на сестру.
Раньше чем уйти, он написал короткую записку участковой фельдшерице, усиленно выбирая тактичные выражения, стараясь щадить ее самолюбие. Благодарил ее за превосходно оказанную первую помощь и просил во избежание возможного заражения крови продолжать перевязки уже с пикриновой кислотой. Вложив записку, он тщательно заклеил конверт.
Придя на следующее утро к Ивенсам, он увидел, что его пикриновая перевязка брошена в огонь, а рука обернута тряпицей с известковой мазью. Участковая фельдшерица поджидала его, готовая к бою.
— Что все это значит, хотела бы я знать? Так моя работа вас не удовлетворяет, доктор Мэнсон?
Это была широкоплечая, немолодая уже женщина с неопрятными седоватыми волосами, с усталым, изможденным лицом. Она так тяжело дышала от волнения, что ей трудно было говорить.
У Эндрью сердце упало. Но он сурово себя одернул и притворно улыбнулся. — Что вы, что вы, сестра Ллойд, вы меня не так поняли. Может быть, мы переговорим об этом в соседней комнате?
Но фельдшерица закусила удила. Она поглядела туда, где Ивенс и его жена, за юбку которой цеплялась трехлетняя дочурка, слушали, встревоженные, широко открыв глаза.
— Нет, мы будем говорить здесь. Мне скрывать от людей нечего. Моя совесть чиста. Родилась и выросла в Эберло, здесь и школу окончила, здесь замуж вышла, детей своих родила, здесь похоронила мужа и работаю вот уже двадцать лет фельдшерицей. И никто никогда мне не запрещал применять известковую жидкость при ожогах.
— Послушайте, сестра, — уговаривал ее Эндрью. — Известковая мазь, может быть, и хорошее средство в некоторых случаях. Но здесь имеется серьезная опасность контрактуры. — Он для наглядности вытянул ей руку в локте. — Вот почему я настаиваю на такой перевязке.
— Никогда о таком средстве не слыхивала. Старый доктор Экхарт его не употребляет. Так я и сказала мистеру Ивенсу. Я не сторонница всяких новомодных выдумок, как те, кто здесь и работает-то всего какую-нибудь неделю.