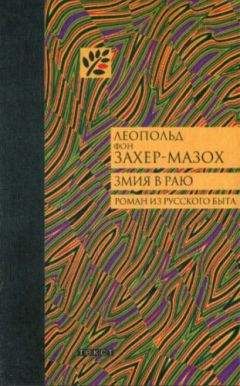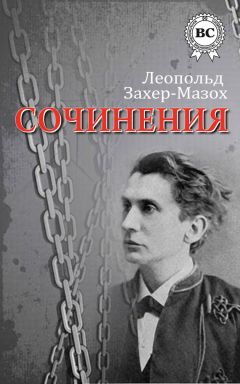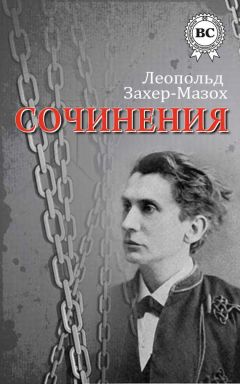— Как бестактно говорить мне такие вещи в глаза, — строго и укоризненно воскликнула Екатерина, — тебе никак не удается скрыть в себе человека низкого происхождения, часто я сама просто понимаю, почему вообще терплю возле себя такого грубого и бездуховного щеголя, как ты.
— Но я говорю, как думаю.
— В том-то все и дело, что думаешь ты по-хамски.
— А ты тщеславна точно молодая девица, — громко расхохотался Корсаков, обнажив при этом два ряда очень крепких и белых зубов.
— Ладно, давай вернемся к разговору о Ланском, — сказала императрица, сделав вид, что не расслышала его грубости, — как, стало быть, он обо мне отзывается?
— Он считает, что ты растолстела, а полных женщин он не любит, — ответил бывший сержант.
— Это указывает на то, что он не глуп, — воскликнула Екатерина, насмешливо приподняв уголки рта, — Браниша, без сомнения, была для него легким грузом, я бы на ее месте его расплющила.
Корсаков от удивления заржал как конь шутке императрицы и будто пляшущий мужик затопал ногами.
Екатерина не удостоила его больше ни словом, отвела его руку, когда перед Зимним дворцом он хотел было помочь ей выйти из саней, и в течение дня уже не впускала его к себе. Во время следующего торжественного приема она подала знак графине Браниша и с конфиденциальной непринужденностью, как любила делать и что при ее дворе приобрело статус закона, уединилась с ней в уголке софы.
— Ну что, вы уже оправились от испуга? — начала Екатерина.
— Я совершенно не испугалась, ваше величество, — возразила графиня Браниша, — и полагаю, что в подобном случае…
— Никто бы из наших дам не испугался, — весело подхватила царица, — это и в самом деле приятный случай. А как, позвольте, зовут того молодого офицера, которого вы таким образом осчастливили?
— Это был младший Ланской.
— Вы его любите?
— Конечно, ваше величество, — чистосердечно призналась Браниша, — а он меня не любит.
— Надо же! Он, похоже, ненавидит вообще женщин, — промолвила царица, все более воодушевляясь.
— К сожалению, ваше величество, только меня одну.
— Утешьтесь, дорогая Браниша, — живо откликнулась Екатерина, — он и обо мне судит таким образом, который, когда бы не забавлял, мог бы меня уязвить. Я заинтересовалась этим молодым офицером. Мне хотелось бы переговорить с ним, выслушать его суждение обо мне, однако потолковать так, чтобы он даже не подозревал, что перед ним я. Вы должны мне поспособствовать в этом деле, моя маленькая.
— О, какая честь!.. — графиня задрожала от ярости.
— У меня уже готов план действий, — продолжала Екатерина, — но в него я посвящу вас только за час до осуществления, а пока живите себе покойно и утешайтесь тем, что я разделяю вашу судьбу, он нас обеих не любит, этот красавец Ланской.
Вскоре после этой беседы у графа Панина состоялся бал-маскарад. Ланской, до сей поры державшийся достаточно далеко от придворных кругов, тоже получил на него приглашение и высказал графине Браниша свое удивление по этому поводу.
— Я обязательно должен туда явиться? — спросил он, и вид у него при этом был совершенно убитый.
— Разумеется, вы непременно должны быть там, — с плохо скрываемым раздражением проговорила в ответ красавица Браниша, — там вам представится редкая возможность оказаться вблизи своего идеала.
— То есть?
— Ах! Наивность вам очень к лицу, — язвительно заметила графиня. — Неужели вы действительно не знаете, что на подобных увеселениях появляется императрица в маске и, неузнанная, завязывает первые нити своих любовных интриг?
— Там будет Екатерина? Вы это наверняка знаете?
— Больше того, я даже буду сопровождать ее.
— О, вы делаете меня счастливейшим из смертных! — воскликнул Ланской. — И как же я смогу узнать вас?
— Я наступлю вам на ногу.
Ланской действительно появился на маскарадном балу, он был в плотно облегающем костюме из синего атласа, выгодно подчеркивающем его по-юношески красивое лицо и великолепную фигуру. Не успел он пройтись по залу и двух шагов, как к нему приблизились две женские маски, одетые в черный бархат: одна — высокая пышнотелая, вторая — тонкая и изящная. Они поприветствовали его, и последняя коснулась его кончиком своей ноги.
— Правда ли то, что тебе рассказывают люди, — заговорила величавая, непринужденно беря его под руку и уводя в один из небольших, украшенных виноградной лозой апартаментов, окружавших зал, — ты действительно враг женщин?
— Даже не знаю, чем вызвано столь нелестное мнение обо мне, — возразил Ланской, он трепетал от прикосновения обожаемой женщины, рука которой сладостной тяжестью лежала теперь на его руке.
— Поговаривают, что ты любим одной из наших прелестных дам, не отвечая на ее чувства взаимностью.
— Совершенно верно.
— Поговаривают также, что даже императрица тебе безразлична.
— И это соответствует действительности, однако вышеозначенное обстоятельство не помешало бы мне полюбить какую-нибудь женщину, если б та оказалась в моем вкусе.
— Стало быть Браниша не в твоем вкусе?
— Не в моем.
— А Екатерина?
— Оставляет меня равнодушным, — невозмутимо промолвил в ответ Ланской, хотя на самом деле все чувства его были в полном смятении, и он готов был перед всем светом рухнуть к ее ногам, — равнодушным настолько, что я никак не могу взять в толк, почему ей все поклоняются и отчего даже женщины приходят в экстаз от ее красоты.
— Стало быть, ты считаешь ее некрасивой?
— Напротив, я считаю ее олицетворением богини любви, — с жаром воскликнул Ланской, — я считаю, что быть даже скамеечкой для ее ног могло бы доставить величайшую радость, что…
— Ну, почему же ты замолчал?
Однако Ланской вовремя спохватился и снова овладел своими эмоциями.
— …Что она была бы самим совершенством, — заключил он, — но у нее нет сердца, она не может любить, и это в моих глазах лишает ее всякого очарования; если я хочу просто на кого-то молиться, то мне достаточно преклонить колени перед мраморным изваянием богини любви, та никогда не раскроет мне навстречу своих холодных как лед объятий, а Екатерина…
— А ты все-таки попробуй, останется ли она мраморной, мне кажется, что ты мог бы ей понравиться.
— Этого я так же очень опасаюсь, — обронил Ланской, — ибо жертвенное пламя моего юного сердца она использовала бы для комнатного фейерверка, чтобы скоротать время, но вот ответить любовью на любовь, страстью на страсть она способна настолько же мало, как ледяной венок на Неве расцвести живыми цветами.
— А если ты ошибаешься, если лед этого сердца смог бы преобразиться в цветущий сад. Когда бы его коснулся солнечный луч любви? Ведь Екатерина еще ни разу не была любима.
— Ты в этом настолько уверена, таинственная незнакомка?
— Конечно, ее домогаются, как не домогались, возможно, ни одной женщины со времен греческой Елены,[4] но любимой, любимой она не была никогда.
Едва царица успела вымолвить эти слова, как к ней приблизилось розовое домино и что-то прошептало ей на ухо. Она гордо и грозно выпрямилась и широким шагом направилась было к залу, однако в дверях внезапно остановилась, обернулась и жестом подозвала к себе Ланского.
— Говорю тебе, Екатерина никогда еще не была любима, но уже ни один раз оказывалась жертвой предательства. Всего хорошего, мы с тобой еще встретимся.
Она милостиво помахала ему рукой на прощание и исчезла в сутолоке маскарада.
Ланской облегченно перевел дух.
— Вы знаете, что произошло, — шепнул ему хорошо знакомый голос, а нежная рука взяла его при этом за локоть, — Дашкова обнаружила, что Корсаков изменяет царице.
— Изменяет?.. Изменяет Екатерине?.. — воскликнул Ланской. — И с кем же?
— С графиней Брюс.
— Быть такого не может!
— У вас, у мужчин, все может быть, — сокрушенно вздохнула несчастная маленькая женщина.
* * *
В последующие дни во всех будуарах только и шептались о главной новости, которая привела двор в неописуемое возбуждение: императрице стало известно о любовных шашнях Корсакова с графиней Брюс, и место официального фаворита отныне освободилось.
Однако все поражались той сдержанной реакции, которую в связи со случившимся проявила императрица, и удивлялись ее мягкости. Ни соперница, ни вероломный любовник наказаны не были, оба сохранили свой ранг и положение при дворе, только последний навсегда лишился благосклонности царицы, и это обстоятельство чувствительно сказалось на нем. Оказаться в сибирской ссылке, жребий конечно суровый, но оставаться при дворе, утратив всякую значимость и влияние, опасаться окружающих, которые едва замечают тебя, участь унизительная, а Корсаков был не из тех, кто мог бы с достоинством сносить это.