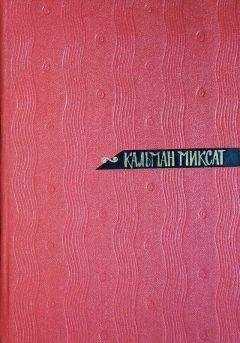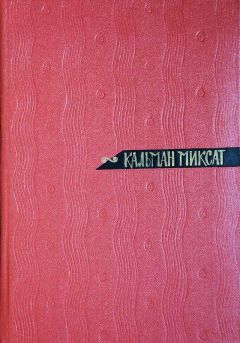— Понимаю, — вздохнул священник, — к этой половине и относится церковная земля.
Что говорить, будущее не сулило ему ничего утешительного, однако постепенно он обрел душевное равновесие, заглушая все тревоги свои молитвой. Молитва принадлежала ему безраздельно и была той вечно плодоносящей нивой, где он всегда мог собрать жатву, столь ему необходимую: терпение, надежду, утешение, удовлетворение. Понемногу он принялся благоустраивать свое жилище, чтобы сделаться однажды самому себе хозяином. Лишь капеллан может понять, что это значит. На свое счастье, он встретил в соседней деревне Копанице старого школьного товарища. Тамаш Урсини, большой, грубоватый человек, резкий и прямолинейный в разговоре, сердце имел отзывчивое и дал ему взаймы денег.
— Глогова твоя — препаршивое местечко, — сказал Урсини. — Да, это не епископство в Нитре. Но что доделаешь? При тощем стаде и пастух тощ. Придется тебе потерпеть. Даниил среди львов чувствовал себя куда хуже. Твои же в конце концов только овцы.
— И даже не обросшие шерстью, — смеясь, присовокупил его преподобие.
— Есть у них и шерсть, да нет у тебя подходящих ножниц.
Прошло немного времени, и священник, приобретя на взятые в долг деньги мебель, в один прекрасный осенний день переселился в собственный дом. Какое это было наслаждение — расхаживать по собственному дому, раскладывать собственные вещи и, наконец, сладко уснуть в собственной постели, на тех самых подушках, для которых еще мать ощипывала перья. Он погрузился в раздумье и долго-долго предавался мечтам; перед тем как заснуть, он сосчитал бревна, чтобы не забыть, что увидит во сне.
И он не забыл — это был восхитительный сон. Ему снилось, что он гоняется за мотыльками по лугам родного села, собирает птичьи гнезда, заливает нору суслика, резвится со своими приятелями, девчонками и мальчишками; он даже подрался с Пали Сабо и только-только собрался проучить его как следует, уже поднял было прут, как вдруг кто-то стукнул снаружи в окно.
Священник сразу проснулся, вздрогнул и стал протирать глаза, отгоняя сладостный сон. Было утро, светило солнце.
— Кто там? — крикнул он.
— Отвори дверь, Янко!
Янко! Кто мог назвать его Янко, обратиться на «ты», кто мог заговорить с ним по-венгерски? Разве что один из веселых друзей, с которыми он только что виделся во сне.
Он выскочил из постели и подбежал к окну.
— Кто там? Кто зовет меня?
— Это я, твой земляк, Мате Биллеги. Выходи, Яношка… то есть выйдите, пожалуйста, на минутку, ваше преподобие, я тут привез вам кое-что.
Священник поспешно накинул на себя одежду. Сердце его учащенно билось. Должно быть, чуткая душа его уже угадывала, предчувствовала дурную весть. Он отпер дверь и вышел из сеней под навес.
— Я здесь, господин Мате Биллеги. Что вы привезли мне, почтеннейший?
Но господина Биллеги во дворе не оказалось, он стоял на дороге у воза, нагруженного- мешками, и отвязывал лукошко, в котором сидели Веронка и гусь. Кони Фечке и Шармань утомленно поникли головами. Шарманю очень хотелось прилечь, он все приноравливался и так и этак, но мешало дышло. Качнувшись в сторону, лошадь почувствовала, как упряжь больно врезается ей в кожу, — а ведь лошадиная честь не дозволяет устроиться на отдых, пока упряжь не снята. Редкий, из ряда вон выходящий случай, когда лошадь ложится прямо в сбруе. У лошадей вообще сильно развито чувство долга.
Мате Биллеги обернулся и увидел стоявшего на пороге священника.
— А вот и Янко! Ну и вырос же ты! Экой долговязый стал! Вот удивилась бы твоя матушка, если б жива была. Черт побери эту веревку — крепким узлом я ее завязал!
Священник сделал шага два по направлению к возу, где господин Биллеги все еще трудился, отвязывая лукошко. Слова «если б жива была» внезапно вонзились в его мозг, словно острый нож, в голове загудело, ноги подкосились.
— Это вы о моей матушке говорите, почтеннейший? — проговорил он, бледнея. — Моя мать умерла?
— Да, отложила свою ложку навеки, бедная женщина; Ну, вот, — он достал из кармана нож с деревянной ручкой и перерезал веревку, — вот тебе твоя сестрица. Ах ты, господи- прости, мозгов-то у меня, что у цыпленка, совсем из памяти вон, что с их преподобием разговариваю… привез я вашему преподобию сестрицу. Куда бы это поставить?
С этими словами он снял с воза лукошко — там, прижавшись к гусю, тихо, безмятежно спала Веронка. Гусь присматривал за ней, как настоящая нянька: вертя во все стороны длинной шеей, он отгонял мух, которые, словно на мед, летели на алые губки девочки.
Слабый луч осеннего солнца осветил лукошко и спящее в нем дитя. Водянистые глаза почтенного Мате вопросительно уставились на священника: что-то он скажет?
— Она умерла? — после долгого-долгого молчания спросил священник. — Это невозможно. Я ничего не чувствовал. — Сжав руками голову, он с горечью воскликнул: — Никто, никто не известив меня! Я даже похоронить ее не смог.
— Меня самого там не было, — сказал господин Биллеги. Как видно, тем, что и он не был на похоронах, господин Мате хотел утешить горевавшего юношу. — Господь бог взял ее к себе, призвал к престолу своему. Никого из нас он здесь не оставит, — ласково добавил он. — Эх, проклятущие жабы, на одну я, как есть, сейчас наступил!
На дворе, заросшем лебедой и дурманом, весело квакали и кувыркались лягушки, вылезшие из-под дырявого, сырого фундамента погреться на солнышке.
— Куда бы дитя положить? — еще раз спросил господин Биллеги и, не получив ответа, осторожно опустил лукошко под навес;
Священник, потрясенный, с помертвевшей душой, стоял, неподвижно уставившись в землю. Ощущение у него было такое, будто земля, дома, плетни, Мате Биллеги и даже лукошко с ребенком уносятся куда-то вдаль, а он все стоит и стоит, не в силах ни двинуться, ни шевельнуться.
Где-то далеко-далеко зашумел сосновый бор Укрицы, и вдруг почудился ему сквозь шум лесов какой-то дивный голос, от которого сжалось его сердце — голос этот напомнил ему голос матери… Юноша вздрогнул, прислушался, стараясь различить, распознать его, но когда ему это почти удалось, странный, непонятный гул поглотил все звуки. Но тише, тише! И вот уже явственно воззвал к нему из леса голос матери: «Расти сестрицу, Янко, Янко!»
Пока отец Янош ловил потусторонние голоса, хозяин Мате Биллеги вконец рассердился на него за молчание — уж чем-чем, а монашеским грошом мог бы уважить человека. (Монашеским грошом называют в тех краях «спасибо».)
— Что ж, так тому и быть, — проговорил с досадой почтенный галапчанин и щелкнул кнутом. — Благослови вас бог, ваше преподобие! Но-о, Шармань, но-о!
Отец Янош, охваченный глубоким горем, не отозвался. Он не замечал ничего вокруг; лошади тронулись, рядом с ними зашагал Мате Биллеги — дорога поднималась в гору — и тихо, сердито ворчал: ничего, мол, в том особенного, ежели из цыпленка павлин вырастет и не вспомнит потом, что был когда-то цыпленком. Взойдя на пригорок, он еще раз оглянулся и, увидев по-прежнему неподвижного юношу, крикнул, словно удостоверяя в том, что выполнил долг:
— Я передал вам то, что должен был передать!
Священник от этого крика очнулся, вздрогнул. Душа его возвратилась из печальных скитаний. А странствовала она далеко-далеко, рядом с той, кого уже не было в живых. Да, первым долгом сын навестил мать: он припомнил дни, проведенные вместе с нею; потом мысленно перебрал и те дни, когда сам жил вдали от нее. Он как бы стоял на коленях у постели умирающей молился и представлял, что она думала и что должна была сказать в последнюю минуту, он как бы принял ее последний вздох, подхваченный ветром и только что переданный ему лесом: «Расти сестрицу, Янко!»
Для того чтобы узнать последнюю волю, последнее желание умирающих родителей, сыну необязательно быть рядом с ними. И писать ему о том необязательно, и не беда, если ничего не сообщат провода, — есть для этой цели другие силы, более могущественные. Первым побуждением Яноша, когда он пришел в себя, было бежать за господином Биллеги, остановить его, попросить рассказать о матери все, что тот знает: как жила два последних года как умерла, как хоронили, — все, все; но галапский воз был уже далеко, а взгляд юноши в это мгновенье упал на лукошко и оно целиком приковало его внимание.
В лукошке спала его маленькая сестренка. Молодой священник еще никогда в жизни не видел ее. Дома он был в последний оаз когда хоронили отца, — тогда мать прислала за ним подводу (А вот теперь никто, никто не известил его!..). Маленькой Пегюнки в ту пору еще не было. О ее существовании он узнал лишь из писем матери, а письма эти были немногословны и полны смущения.
Янош подошел к лукошку и посмотрел на полненькое, милое личико «Как она похожа на маму!» — подумал он и так долго пристально вглядывался в ее личико, что оно стало расти, изменяться и вдруг пред затуманившимся взором Яноша черта за чертой всплыло лицо матери. Боже мой, боже мой! Ведь это же чудо, настоящее чудо!.. Галлюцинация продолжалась всего полминуты.